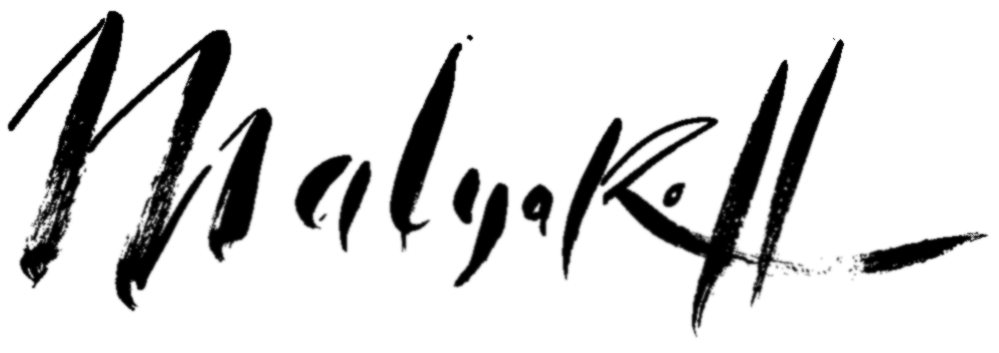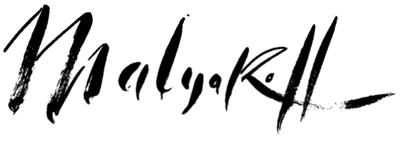Место, где поворачивает река
"Ты и с победой домой не пришел, и узнать не дано мне,
Что тебя держит и где ты, бессердечный, пропал.
Всякий, кто к нам повернет чужеземный корабль, не уедет
Прежде, чем тысячу раз я не спрошу о тебе
И, — чтоб тебе передать, если встретить тебя доведется, —
Он не получит письма, что я писала сама".
Письмо Пенелопы Уллису. Овидий. Героиды. (пер. С. Ошерова)
Что тебя держит и где ты, бессердечный, пропал.
Всякий, кто к нам повернет чужеземный корабль, не уедет
Прежде, чем тысячу раз я не спрошу о тебе
И, — чтоб тебе передать, если встретить тебя доведется, —
Он не получит письма, что я писала сама".
Письмо Пенелопы Уллису. Овидий. Героиды. (пер. С. Ошерова)
Утром прочел письмо Вики и меня едва не вырвало. Пришло на адрес моих родителей две недели назад. Отец прислал его скан. Она не знала, куда мне писать, за последнюю пару лет я сменил пять адресов и столько же номеров телефона. И уже две страны. Я прочел письмо и закрыл глаза. Сел на край невидимого кресла и вдохнул полной грудью, чтобы тошнота отступила. В Париже не с кем поделиться своим горем. И дома друзей не осталось.
Лег спать, и не могу уснуть. Думаю о письме и вспоминаю детство. Вика писала, когда я работал в Осло: "Я даже не представляю, как ты далеко, я дальше Москвы никогда не уезжала". Да и туда один раз. Теперь понимаю её слова. Я правда слишком далеко последние несколько лет.
Мы — я, отец, мама, Вика со своей мамой — жили в поселке на тысячу человек на юге страны, у самой границы. Я на два года старше Вики. А она даже в девять лет, когда случилось событие на реке, была очень красивой. Большие синие глаза и светло-золотые, как пшеничное поле, волосы. Волосы эти и глаза обезоружили не один десяток мужчин. Но это было позже.
Жили мы небогато. А Вика с мамой — совсем бедно, как после войны. Время было тяжелое и неясное, как раз развал страны. Девяностые. Родители занимались фермерством: выращивали свиней, бычков, кроликов, уток, индюков. Зверей было много. Еще огород, большой, как целое поле. Все это кормило нас, и, нужно сказать, жили мы хорошо. Родственникам в городе почти нечего было есть, у нас всегда на ужин была жареная на сале картошка, огурцы из бочки и домашний горячий хлеб.
Мы не родственники с Викой. Дома наши были близко друг к другу, а остальные в поселке — далеко. Наши родители сдружились, время такое. Потом умер ее отец, и мы стали еще ближе. Вели хозяйство на две семьи. Работали вместе, еду какой-то доход делили пополам. Ужинали чаще всего тоже вместе — у нас дома, и для экономии тепла, и просто потому что стали одной семьей. Так дружат бездомные кошки: вместе теплее и безопаснее. Я воспринимал Вику как родную сестренку.
Дорога в ближайший город занимала полтора часа на старой машине. Ездили редко, выезд считался праздником. Говорить об этом начинали за месяц, за пару дней мы с Викой не могли уснуть от предвкушения. Ездили для того, чтобы отвезти картошки голодающим родственникам и продать мясо на рынке. Иногда — купить одежду, хотя чаще мамы шили нам сами.
Сейчас я живу в другой стране и в иных обстоятельствах. Две недели назад меня опять повысили, я вице-президент французского представительства по продаже газа. Много работы. Меня ценят: без моего слова не принимают ни одного решения по сделкам. Президент компании доверяет мне груду своих обязанностей. У меня личный водитель, квартира в Девятом округе Парижа, рядом с Монмартром. Я ношу дорогой костюм. И часы впятеро дороже костюма.
Лег спать, и не могу уснуть. Думаю о письме и вспоминаю детство. Вика писала, когда я работал в Осло: "Я даже не представляю, как ты далеко, я дальше Москвы никогда не уезжала". Да и туда один раз. Теперь понимаю её слова. Я правда слишком далеко последние несколько лет.
Мы — я, отец, мама, Вика со своей мамой — жили в поселке на тысячу человек на юге страны, у самой границы. Я на два года старше Вики. А она даже в девять лет, когда случилось событие на реке, была очень красивой. Большие синие глаза и светло-золотые, как пшеничное поле, волосы. Волосы эти и глаза обезоружили не один десяток мужчин. Но это было позже.
Жили мы небогато. А Вика с мамой — совсем бедно, как после войны. Время было тяжелое и неясное, как раз развал страны. Девяностые. Родители занимались фермерством: выращивали свиней, бычков, кроликов, уток, индюков. Зверей было много. Еще огород, большой, как целое поле. Все это кормило нас, и, нужно сказать, жили мы хорошо. Родственникам в городе почти нечего было есть, у нас всегда на ужин была жареная на сале картошка, огурцы из бочки и домашний горячий хлеб.
Мы не родственники с Викой. Дома наши были близко друг к другу, а остальные в поселке — далеко. Наши родители сдружились, время такое. Потом умер ее отец, и мы стали еще ближе. Вели хозяйство на две семьи. Работали вместе, еду какой-то доход делили пополам. Ужинали чаще всего тоже вместе — у нас дома, и для экономии тепла, и просто потому что стали одной семьей. Так дружат бездомные кошки: вместе теплее и безопаснее. Я воспринимал Вику как родную сестренку.
Дорога в ближайший город занимала полтора часа на старой машине. Ездили редко, выезд считался праздником. Говорить об этом начинали за месяц, за пару дней мы с Викой не могли уснуть от предвкушения. Ездили для того, чтобы отвезти картошки голодающим родственникам и продать мясо на рынке. Иногда — купить одежду, хотя чаще мамы шили нам сами.
Сейчас я живу в другой стране и в иных обстоятельствах. Две недели назад меня опять повысили, я вице-президент французского представительства по продаже газа. Много работы. Меня ценят: без моего слова не принимают ни одного решения по сделкам. Президент компании доверяет мне груду своих обязанностей. У меня личный водитель, квартира в Девятом округе Парижа, рядом с Монмартром. Я ношу дорогой костюм. И часы впятеро дороже костюма.
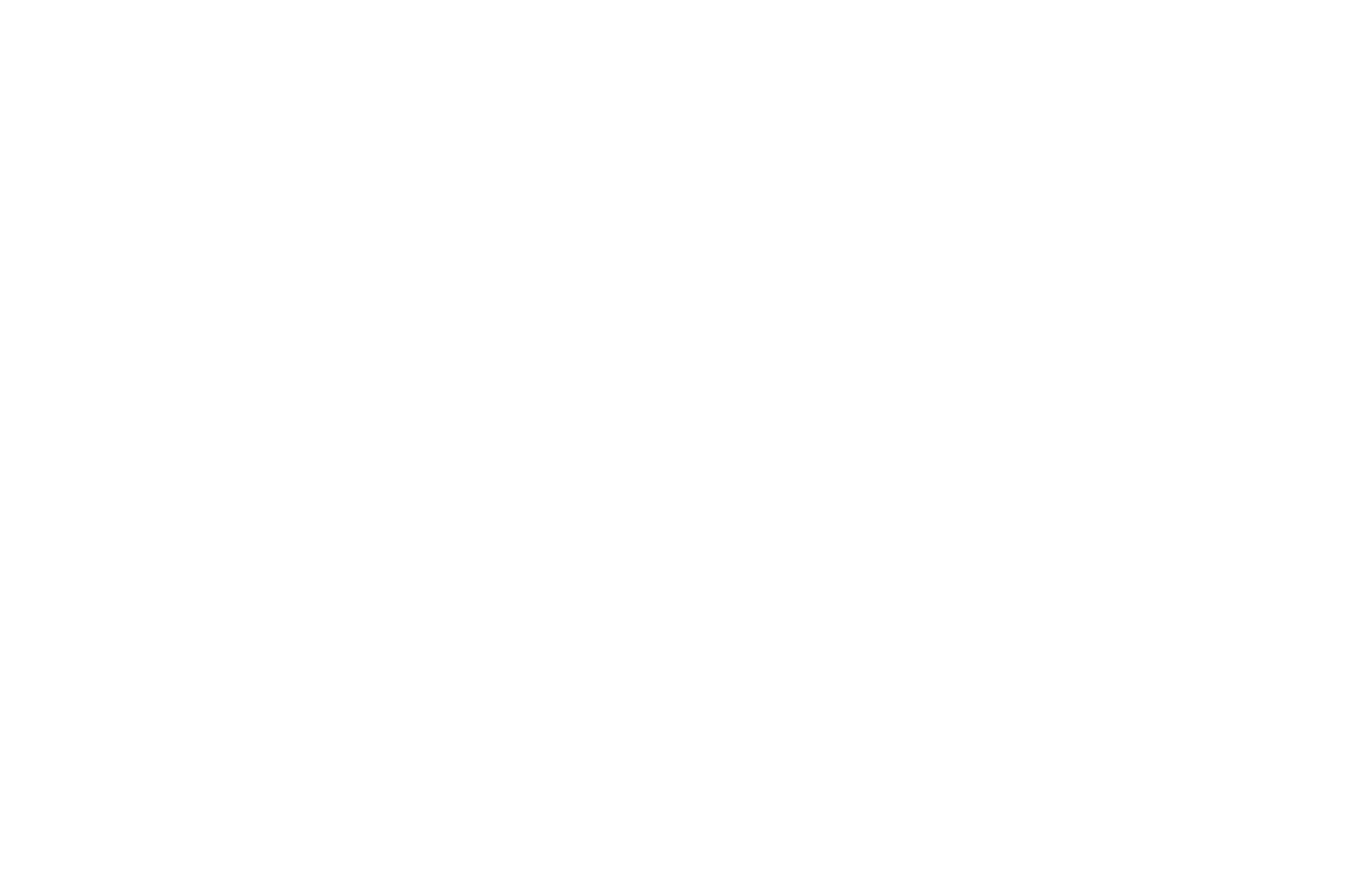
А тогда, случалось, летом совсем не было обуви. Если дождь — то бегать по грязи босиком. Да и в сентябре мы шлепали без обуви с Викой за руку в школу. А вместо ранцев — стершиеся пакеты.
Нам давали по два рубля на душу, на них купишь или пару булочек с чаем, или одну маленькую шоколадку. Мы складывались, покупали по булке на обед, и одну на двоих шоколадку по пути домой. Делили на крошечные квадратики, и до вечера во рту таяло ароматное счастье. Такое богатство.
Потом, когда мы оба уже учились в старшей школе, Викина мама умерла, и родители забрали её жить к нам. Она была уже потрясающе красивой девушкой, на нее заглядывались все в поселке. И мы договорились, о том, что поступим учиться в Питер. Чего бы это не стоило. Я должен был первый пройти этой дорогой, у нас так всегда. И я старался учиться, как мог. Вика подражала мне, как настоящая младшая сестренка, и если мы и влюбились тогда друг в друга, то об этом все равно никто и никогда не узнает.
Случай, о котором я хочу рассказать, произошел раньше. Мне было одиннадцать, Вике девять. Родители собирались в город, но нас брали, развалюху забили овощами и мясом для рынка. Это было поздней осенью, в воскресенье, нас оставили присматривать за хозяйством и дали столько дел, что сделать все мы могли бы только к ночи. Хотя под конец ноября ночь приходит пораньше, облегчая нам задачу.
Наш огород переходит в короткий беспорядочный лес. За ним — страшная кавказская река, глубокая, черная и опасная. Особенно осенью, когда воды ее становятся ледяными, и если не сделают из тебя отбивную об камни, то точно задушат ледяными осколками. Основное течение несется в самой середине, и даже если заходишь летом с берега, тянет как похититель в самую гущу и глубину, откуда назад путь только на небо. Река не отпустит тебя. И будет швырять о камни. И не будет давать дышать, пока ты не сдашься и не отдашь ей маленькую глупую душу.
Ходить к реке было запрещено. А самый строгий запрет — кататься на тарзанке, протянутой через всю реку от одного берега до другого. Тонкий металлический трос прикреплен почти к самой макушке высокого орехового дерева. Но не было ничего более желанного, чем перелететь реку, как птица, держась за перекладину, скользящую по тросу.
Забираешься по кривым веткам ореха, выросшим, как ступеньки. Чтобы оказаться на самом верху, нужно полминуты. Сжимаешь железяку перекладины. Во рту пересыхает, дрожат колени. Раз! Отталкиваешься и несколько мгновений паришь над бурлящей бездной. В животе щекочет и время перестает идти, будто остановилась жизнь. Нужно успеть еще спрыгнуть в кучу сухой травы и листьев, чтобы не влететь в противоположное дерево. Иначе ты лепешка. Кучу собирали поколения мальчишек и девчонок все времена, что существовала тарзанка. Падаешь в середину этой душистой кучи, пока душа твоя еще летит вместе с перекладиной. Пока не услышишь гулкий удар ее о дерево. Лежишь в куче несколько мгновений и прислушиваешься к жизни. Будто только родился и пока не понимаешь, что такое мир вокруг.
Нам давали по два рубля на душу, на них купишь или пару булочек с чаем, или одну маленькую шоколадку. Мы складывались, покупали по булке на обед, и одну на двоих шоколадку по пути домой. Делили на крошечные квадратики, и до вечера во рту таяло ароматное счастье. Такое богатство.
Потом, когда мы оба уже учились в старшей школе, Викина мама умерла, и родители забрали её жить к нам. Она была уже потрясающе красивой девушкой, на нее заглядывались все в поселке. И мы договорились, о том, что поступим учиться в Питер. Чего бы это не стоило. Я должен был первый пройти этой дорогой, у нас так всегда. И я старался учиться, как мог. Вика подражала мне, как настоящая младшая сестренка, и если мы и влюбились тогда друг в друга, то об этом все равно никто и никогда не узнает.
Случай, о котором я хочу рассказать, произошел раньше. Мне было одиннадцать, Вике девять. Родители собирались в город, но нас брали, развалюху забили овощами и мясом для рынка. Это было поздней осенью, в воскресенье, нас оставили присматривать за хозяйством и дали столько дел, что сделать все мы могли бы только к ночи. Хотя под конец ноября ночь приходит пораньше, облегчая нам задачу.
Наш огород переходит в короткий беспорядочный лес. За ним — страшная кавказская река, глубокая, черная и опасная. Особенно осенью, когда воды ее становятся ледяными, и если не сделают из тебя отбивную об камни, то точно задушат ледяными осколками. Основное течение несется в самой середине, и даже если заходишь летом с берега, тянет как похититель в самую гущу и глубину, откуда назад путь только на небо. Река не отпустит тебя. И будет швырять о камни. И не будет давать дышать, пока ты не сдашься и не отдашь ей маленькую глупую душу.
Ходить к реке было запрещено. А самый строгий запрет — кататься на тарзанке, протянутой через всю реку от одного берега до другого. Тонкий металлический трос прикреплен почти к самой макушке высокого орехового дерева. Но не было ничего более желанного, чем перелететь реку, как птица, держась за перекладину, скользящую по тросу.
Забираешься по кривым веткам ореха, выросшим, как ступеньки. Чтобы оказаться на самом верху, нужно полминуты. Сжимаешь железяку перекладины. Во рту пересыхает, дрожат колени. Раз! Отталкиваешься и несколько мгновений паришь над бурлящей бездной. В животе щекочет и время перестает идти, будто остановилась жизнь. Нужно успеть еще спрыгнуть в кучу сухой травы и листьев, чтобы не влететь в противоположное дерево. Иначе ты лепешка. Кучу собирали поколения мальчишек и девчонок все времена, что существовала тарзанка. Падаешь в середину этой душистой кучи, пока душа твоя еще летит вместе с перекладиной. Пока не услышишь гулкий удар ее о дерево. Лежишь в куче несколько мгновений и прислушиваешься к жизни. Будто только родился и пока не понимаешь, что такое мир вокруг.
Обратная дорога — через провисший на металлических канатах кривой мост с гнилыми дощечками. В некоторых местах нет по две, три дощечки, приходится перелазить, животом вжимаясь в трос. Под ногами орет черный поток. Перешел на родной берег — ты дома, и нет счастья больше. Как будто за три минуты повзрослел на год. Вернулся оттуда, откуда возврата нет.
Тарзанка — летняя игра. А если завтра зима, больше всего хочется попасть на минутку в лето. Летом мы бегали тайком к реке, взмывали по дереву вверх. Раз — и ты уже летишь, как сумасшедшая белка. Два — и ты на границе жизни и смерти, видишь далеко под собой беснующуюся воду. Три — и ты лежишь в куче душистой травы, и нет ничего сильнее в твоей маленькой жизни, чем это мгновение. Я когда-то пытался раскопать кучу, найти ее секрет, понять, что лежит внутри ее материнских объятий. Сухие листья, потом — сырые. Потом — молодая трава, бледные ростки. Не на земле, а прямо где-то на границе между листвой влажной и листвой гниющей. Потом, глубже, тление без резких переходов превращается в землю. Отец говорил иногда, что все в итоге становится землей.
Не прошло и десяти минут, как отъехала шумная машина с родителями, и мы с Викой стоим под ореховым деревом и смотрим вверх на болтающуюся перекладину. Одно дело — летом, когда все бегают кататься, другое – теперь. Вика боится прыгать, я полез первым. Руки мерзнут. Сырые ветки орешника покрывают ладони ледяной слизью. Сжал металл перекладины, держать холодное железо неприятно. Резкий прыжок — и лечу. Колесико катится по тросу медленнее, чем летом. Успело заржаветь. Над самой бездной ход его замедляется, я почти останавливаюсь. В голове и животе — чистый ужас. Тяжело держаться так долго. В такой холод. Но колесико начинает крутиться скорее, и вот — я лечу вниз, в объятья куче. Зарываюсь в ее теплые внутренности. Вдыхаю сладкий запах жизни.
Тарзанка — летняя игра. А если завтра зима, больше всего хочется попасть на минутку в лето. Летом мы бегали тайком к реке, взмывали по дереву вверх. Раз — и ты уже летишь, как сумасшедшая белка. Два — и ты на границе жизни и смерти, видишь далеко под собой беснующуюся воду. Три — и ты лежишь в куче душистой травы, и нет ничего сильнее в твоей маленькой жизни, чем это мгновение. Я когда-то пытался раскопать кучу, найти ее секрет, понять, что лежит внутри ее материнских объятий. Сухие листья, потом — сырые. Потом — молодая трава, бледные ростки. Не на земле, а прямо где-то на границе между листвой влажной и листвой гниющей. Потом, глубже, тление без резких переходов превращается в землю. Отец говорил иногда, что все в итоге становится землей.
Не прошло и десяти минут, как отъехала шумная машина с родителями, и мы с Викой стоим под ореховым деревом и смотрим вверх на болтающуюся перекладину. Одно дело — летом, когда все бегают кататься, другое – теперь. Вика боится прыгать, я полез первым. Руки мерзнут. Сырые ветки орешника покрывают ладони ледяной слизью. Сжал металл перекладины, держать холодное железо неприятно. Резкий прыжок — и лечу. Колесико катится по тросу медленнее, чем летом. Успело заржаветь. Над самой бездной ход его замедляется, я почти останавливаюсь. В голове и животе — чистый ужас. Тяжело держаться так долго. В такой холод. Но колесико начинает крутиться скорее, и вот — я лечу вниз, в объятья куче. Зарываюсь в ее теплые внутренности. Вдыхаю сладкий запах жизни.
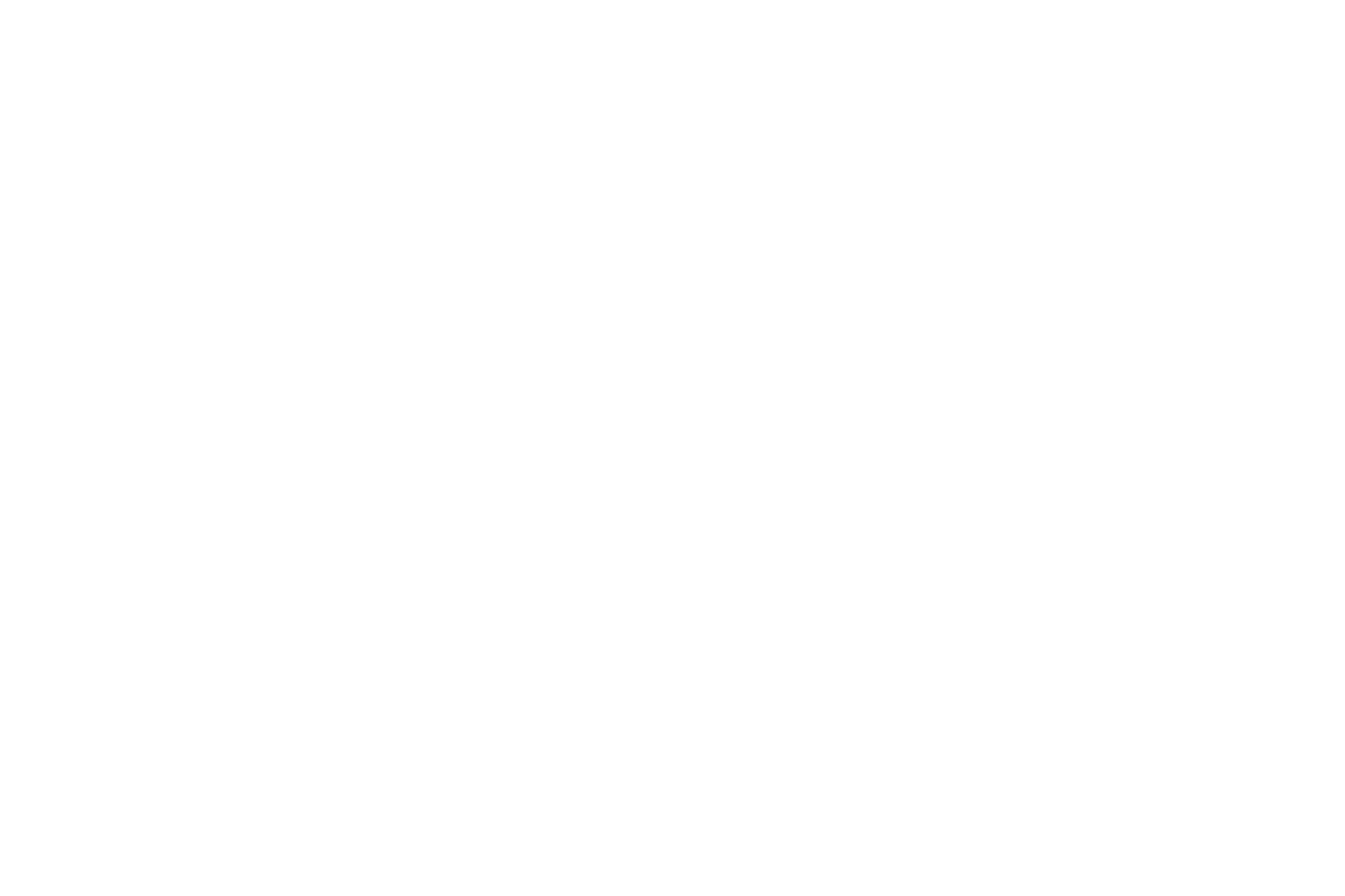
Когда я уже добираюсь до середины моста, обратно, — слышу голос Вики.
— Ээй! Я готова! — Вижу ее тощую фигурку, уже поднявшуюся на носочки старых кед перед прыжком с перекладиной в руках.
Я всегда волновался за нее. У меня нет родной младшей сестры, и потому я волновался за Вику и чувствовал обязанность ее защищать. Я не успел подумать, что она может повторить за мной.
— Не надо! Не прыгай! Подожди! — я болтался над рекой как раз в том месте моста, где не было досок.
Но она, конечно, прыгнула. Я видел ее соломенные волосы, они летели вслед за ней. Летом я часто смотрел снизу вверх на нее, когда она прыгала. Волосы, тонкие и искрящиеся на солнце, как огонь мчались за ней, пока она летела. Теперь тоже. Только нет солнца и они тусклые и тяжелые от влаги, наполняющей воздух вокруг реки. Она прыгала всегда изящно. Я гордился тем, что так умеет прыгать Вика, почти моя сестра, так легко и красиво ей это удавалось. И теперь она летела над бурлящей холодной водой, как птичка. Отбилась от стаи и ищет дорогу в лето.
Вика легче меня раза в два. Поэтому колесико крутится еще медленнее, полет ее совсем плавный. Так летает перышко в комнате у залитого солнцем окна. Смотришь на него — а оно почти висит в воздухе, не двигаясь. День сегодня короткий, родители уехали в три часа, к вечернему рынку. Теперь уже скоро сумерки. В сумерках с октября и до марта летают вороны. Они появляются внезапно из-за крыш и лысых макушек деревьев. Крылья шелестят, как ветер перед ливнем. Они кричат и закрывают собой весь свет от неба. На горизонте реки я замечаю их приближение. Значит, скоро вечер. А мы ничего по дому и не думали делать.
Колесико остановилось прямо посередине реки.
Почему-то, когда я прочел письмо от Вики три раза подряд, я вспомнил именно этих ворон. С тех пор, как уехал учиться, я больше не видел таких стай. Там где я живу все это время, ворон вообще нет. У нас было детское правило, что когда они пролетают над тобой, обязательно присядь и досчитай до шестнадцати. Иначе приключится несчастье.
— Саша! Саша! — закричала она.
Я ни на секунду не задумывался. Я знал, что нужно делать. Перебраться обратно, мигом забраться к креплению троса, повиснуть на нем, чтобы натянуть провисший над рекой трос. Потом она должна раскачаться, и все, Вика спасена. Нужно продержаться пару минут.
Добраться до кучи заняло несколько мгновений. Она вязкая и большая, но чтобы добраться до дерева, нужно ее преодолеть. Ноги затягивает листва и трава, как бывает в ужасном сне. Я слышу отчаянье Вики, и понимаю, что я не успею. Руки у нее замерзли, колесико ржавое, лезть по этому дереву не так удобно, как по орешнику. Нужно придумать что-то другое.
За мостом у реки резкий поворот. С мальчишками мы строили корабли из бутылок и сплавляли. В месте, где поворачивает река, можно дотянуться до проплывающего корабля и выловить его, чтобы пустить снова. Не успеешь добежать, или не дотянешься — он так и уплывет в Каспийское море. Понимаю, там мой последний шанс. Если успею поймать Вику — спасу. Если нет? Все равно времени больше нет. Я выбрался из кучи и побежал. Когда оказался возле моста, повернулся к Вике. Она еще висит, и от отчаянья и боли мелко трясет тонкими ножками.
— Прыгай! — крикнул я изо всех сил.
— Нет! — и она стала трясти ногами еще скорее.
— Прыгай, я сказал! Быстро! — я вложил весь свой страх в этот крик. — Отпускай руки, сказал!
И она разжала окоченевшие пальцы. Я видел, как летела она в воду с десятиметровой высоты.
Посиневшими ладошками с пальцами, которые не могла разжать, закрыла лицо. Волосы не успевали за ее падением и летели за ней как золотой шарф. Она вонзилась в воду, как рыбка, которая выпрыгивает на мгновение, чтобы глотнуть воздух и затем устремляется обратно в родную стихию. Всплеск черной воды — и все остается таким же, как было. Река так же мощно гудит, приближается стая ворон, воздух наполняют сумерки. Я лечу, быстрее чем когда-либо в жизни, к повороту реки.
Падаю, в грязь. Разбиваю щеку. Встаю и бегу. На повороте падаю еще раз. Ладонями на острые камни. Плачу. Больно. Отчаянье. Встаю и опять бегу.
Я плохо помню, что было дальше. В такие мгновения все происходит как во сне. Я вытащил Вику на берег из ледяного потока. Нес ее на руках, каким-то образом перебрался через мост. Она ведь очень легкая. Когда вернулись родители, у нее была лихорадка, приехали врач, увез Вику в город.
— Ээй! Я готова! — Вижу ее тощую фигурку, уже поднявшуюся на носочки старых кед перед прыжком с перекладиной в руках.
Я всегда волновался за нее. У меня нет родной младшей сестры, и потому я волновался за Вику и чувствовал обязанность ее защищать. Я не успел подумать, что она может повторить за мной.
— Не надо! Не прыгай! Подожди! — я болтался над рекой как раз в том месте моста, где не было досок.
Но она, конечно, прыгнула. Я видел ее соломенные волосы, они летели вслед за ней. Летом я часто смотрел снизу вверх на нее, когда она прыгала. Волосы, тонкие и искрящиеся на солнце, как огонь мчались за ней, пока она летела. Теперь тоже. Только нет солнца и они тусклые и тяжелые от влаги, наполняющей воздух вокруг реки. Она прыгала всегда изящно. Я гордился тем, что так умеет прыгать Вика, почти моя сестра, так легко и красиво ей это удавалось. И теперь она летела над бурлящей холодной водой, как птичка. Отбилась от стаи и ищет дорогу в лето.
Вика легче меня раза в два. Поэтому колесико крутится еще медленнее, полет ее совсем плавный. Так летает перышко в комнате у залитого солнцем окна. Смотришь на него — а оно почти висит в воздухе, не двигаясь. День сегодня короткий, родители уехали в три часа, к вечернему рынку. Теперь уже скоро сумерки. В сумерках с октября и до марта летают вороны. Они появляются внезапно из-за крыш и лысых макушек деревьев. Крылья шелестят, как ветер перед ливнем. Они кричат и закрывают собой весь свет от неба. На горизонте реки я замечаю их приближение. Значит, скоро вечер. А мы ничего по дому и не думали делать.
Колесико остановилось прямо посередине реки.
Почему-то, когда я прочел письмо от Вики три раза подряд, я вспомнил именно этих ворон. С тех пор, как уехал учиться, я больше не видел таких стай. Там где я живу все это время, ворон вообще нет. У нас было детское правило, что когда они пролетают над тобой, обязательно присядь и досчитай до шестнадцати. Иначе приключится несчастье.
— Саша! Саша! — закричала она.
Я ни на секунду не задумывался. Я знал, что нужно делать. Перебраться обратно, мигом забраться к креплению троса, повиснуть на нем, чтобы натянуть провисший над рекой трос. Потом она должна раскачаться, и все, Вика спасена. Нужно продержаться пару минут.
Добраться до кучи заняло несколько мгновений. Она вязкая и большая, но чтобы добраться до дерева, нужно ее преодолеть. Ноги затягивает листва и трава, как бывает в ужасном сне. Я слышу отчаянье Вики, и понимаю, что я не успею. Руки у нее замерзли, колесико ржавое, лезть по этому дереву не так удобно, как по орешнику. Нужно придумать что-то другое.
За мостом у реки резкий поворот. С мальчишками мы строили корабли из бутылок и сплавляли. В месте, где поворачивает река, можно дотянуться до проплывающего корабля и выловить его, чтобы пустить снова. Не успеешь добежать, или не дотянешься — он так и уплывет в Каспийское море. Понимаю, там мой последний шанс. Если успею поймать Вику — спасу. Если нет? Все равно времени больше нет. Я выбрался из кучи и побежал. Когда оказался возле моста, повернулся к Вике. Она еще висит, и от отчаянья и боли мелко трясет тонкими ножками.
— Прыгай! — крикнул я изо всех сил.
— Нет! — и она стала трясти ногами еще скорее.
— Прыгай, я сказал! Быстро! — я вложил весь свой страх в этот крик. — Отпускай руки, сказал!
И она разжала окоченевшие пальцы. Я видел, как летела она в воду с десятиметровой высоты.
Посиневшими ладошками с пальцами, которые не могла разжать, закрыла лицо. Волосы не успевали за ее падением и летели за ней как золотой шарф. Она вонзилась в воду, как рыбка, которая выпрыгивает на мгновение, чтобы глотнуть воздух и затем устремляется обратно в родную стихию. Всплеск черной воды — и все остается таким же, как было. Река так же мощно гудит, приближается стая ворон, воздух наполняют сумерки. Я лечу, быстрее чем когда-либо в жизни, к повороту реки.
Падаю, в грязь. Разбиваю щеку. Встаю и бегу. На повороте падаю еще раз. Ладонями на острые камни. Плачу. Больно. Отчаянье. Встаю и опять бегу.
Я плохо помню, что было дальше. В такие мгновения все происходит как во сне. Я вытащил Вику на берег из ледяного потока. Нес ее на руках, каким-то образом перебрался через мост. Она ведь очень легкая. Когда вернулись родители, у нее была лихорадка, приехали врач, увез Вику в город.
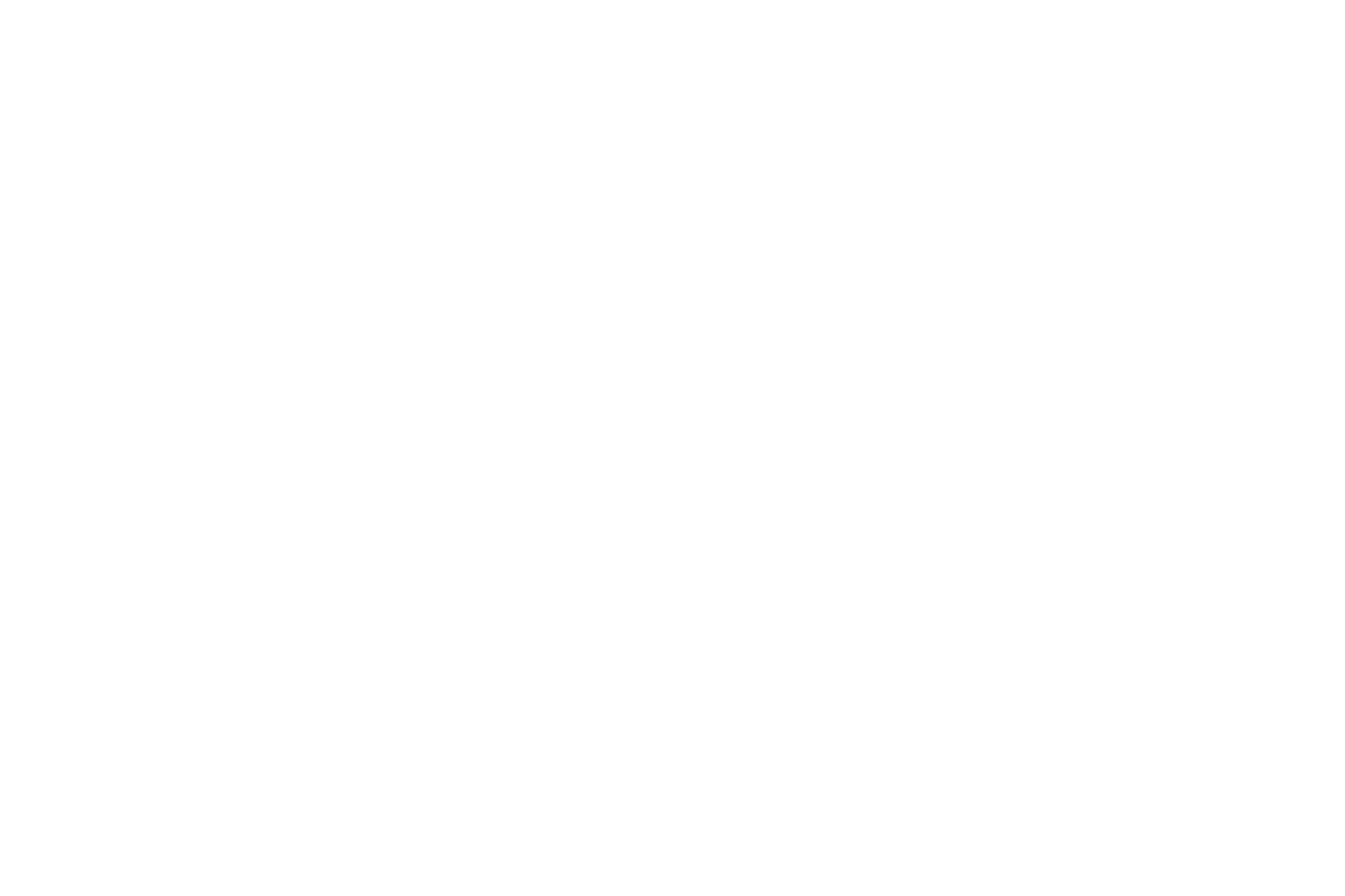
Меня наказали страшно. Били ремнем. Но с каждым ударом отца я чувствовал благодарность всему миру все сильнее. Мне хотелось говорить спасибо громче и искреннее, пока он бил. Тарзанку на следующий день обрезал отец, и с тех пор так никто и не восстановил. Я больше не ходил к реке. К Вике в больницу меня взяли только через неделю.
Она лежала с перебинтованной рукой и с воспалением легких. Когда я зашел она очень нежно улыбнулась мне. Еще более худая и беззащитная. Бледная. Она стала еще красивее.
— Спасибо. — сказала она.
Потом мы улыбались друг другу.
— Ты побежал к тому месту, где мог меня поймать, ты знал, что сможешь меня спасти.
— А ты думала, я просто так крикнул тебе, чтобы прыгала? Ты не видела, что я бегу туда?
— Нет. Я же зажмурила глаза, чтобы было не так страшно. Я верила, что ты придумаешь что-то. Что ты меня спасешь. Ты ведь мой братишка.
Такая она была и потом. Она верила, что я всегда спасу ее, выловлю из бурлящей реки жизни или смерти в таком месте, где она будет ближе всего к берегу.
Она пролежала в больнице месяц, потом мы вновь проводили вечера за книгами и учебой, все так же покупали по одной булочке в школе и одну на двоих крошечную шоколадку. Можно было бы на этом и закончить. Но не это я хотел рассказать. Пришло письмо от Вики, две недели назад, в тот самый дом, где мы жили. Скан его переслал сегодня отец.
Она лежала с перебинтованной рукой и с воспалением легких. Когда я зашел она очень нежно улыбнулась мне. Еще более худая и беззащитная. Бледная. Она стала еще красивее.
— Спасибо. — сказала она.
Потом мы улыбались друг другу.
— Ты побежал к тому месту, где мог меня поймать, ты знал, что сможешь меня спасти.
— А ты думала, я просто так крикнул тебе, чтобы прыгала? Ты не видела, что я бегу туда?
— Нет. Я же зажмурила глаза, чтобы было не так страшно. Я верила, что ты придумаешь что-то. Что ты меня спасешь. Ты ведь мой братишка.
Такая она была и потом. Она верила, что я всегда спасу ее, выловлю из бурлящей реки жизни или смерти в таком месте, где она будет ближе всего к берегу.
Она пролежала в больнице месяц, потом мы вновь проводили вечера за книгами и учебой, все так же покупали по одной булочке в школе и одну на двоих крошечную шоколадку. Можно было бы на этом и закончить. Но не это я хотел рассказать. Пришло письмо от Вики, две недели назад, в тот самый дом, где мы жили. Скан его переслал сегодня отец.
Детство оказалось позади. Я уехал учиться первым, каков и был уговор, и поступил в тот университет в Петербурге. Поступить было тяжело, учиться — вообще невыносимо. Я редко звонил домой, редко общался с Викой. В конце первого курса, Вика уже закончила десятый класс, оказалось, она ждет ребенка. Она влюбилась в парня из города, сынка продавца шуб. Сынок ездил к ней на своей машине, он был старше на пять лет. Они недолго встречались к тому времени. Я научил ее доверять парням, но не рассказал об опасностях. Он оказался почти честным малым, и они скоро расписались. Вика переехала жить в город. Беременность кончилась плохо, Вика так и не родила. Одиннадцатый класс тоже не закончила. И все у них было хорошо.
Она позвонила мне, когда ее бросил тот парень. Меня как раз взяли на первую стажировку в Газпром-трансгаз. Просила приехать, но тогда это было бы тупостью, меня бы уволили еще не приняв. Да и какую-то я чувствовал обиду. Я отказал ей, благо, доводы были.
Она переехала в Москву, устроилась на какую-то работу, я даже и не узнавал, кем она работает. Стала жить с каким-то парнем. Когда ее бросил он, меня, так случилось вновь, только что повысили. Я стал начальником отдела по заключению контрактов. Это был как раз конец года, самая жара с отчетами. До того мы почти не общались, поздравляли друг друга с днем рождения и большими праздниками. Она написала мне сообщение на телефон, что-то вроде того: "Не было такого раньше. Ты живешь от нас не очень-то близко. Я не могу остановиться и прекратить плакать. Мое сердце горит. Я потеряла сына и двух мужчин, которым доверяла, как тебе. Тебя я потеряла раньше". По-моему, это было как-то так, с нарушенным порядком, как будто поэтично.
Честно, я не мог поверить, что она выросла. Для меня Вика была все той же девочкой пронзительной красоты, с еще плоской грудью. Кто теперь Вика, я уже не понимал. И времени понимать не хватало. Мы стали переписываться, я поддерживал ее, как мог, и пару раз высылал деньги. Меня перевели сначала ненадолго в Осло, через полгода — в Париж, я несколько раз сменил номер телефона, и сам телефон, французский номер забыл выслать Вике, а потом потерял ее контакты.
Она позвонила мне, когда ее бросил тот парень. Меня как раз взяли на первую стажировку в Газпром-трансгаз. Просила приехать, но тогда это было бы тупостью, меня бы уволили еще не приняв. Да и какую-то я чувствовал обиду. Я отказал ей, благо, доводы были.
Она переехала в Москву, устроилась на какую-то работу, я даже и не узнавал, кем она работает. Стала жить с каким-то парнем. Когда ее бросил он, меня, так случилось вновь, только что повысили. Я стал начальником отдела по заключению контрактов. Это был как раз конец года, самая жара с отчетами. До того мы почти не общались, поздравляли друг друга с днем рождения и большими праздниками. Она написала мне сообщение на телефон, что-то вроде того: "Не было такого раньше. Ты живешь от нас не очень-то близко. Я не могу остановиться и прекратить плакать. Мое сердце горит. Я потеряла сына и двух мужчин, которым доверяла, как тебе. Тебя я потеряла раньше". По-моему, это было как-то так, с нарушенным порядком, как будто поэтично.
Честно, я не мог поверить, что она выросла. Для меня Вика была все той же девочкой пронзительной красоты, с еще плоской грудью. Кто теперь Вика, я уже не понимал. И времени понимать не хватало. Мы стали переписываться, я поддерживал ее, как мог, и пару раз высылал деньги. Меня перевели сначала ненадолго в Осло, через полгода — в Париж, я несколько раз сменил номер телефона, и сам телефон, французский номер забыл выслать Вике, а потом потерял ее контакты.
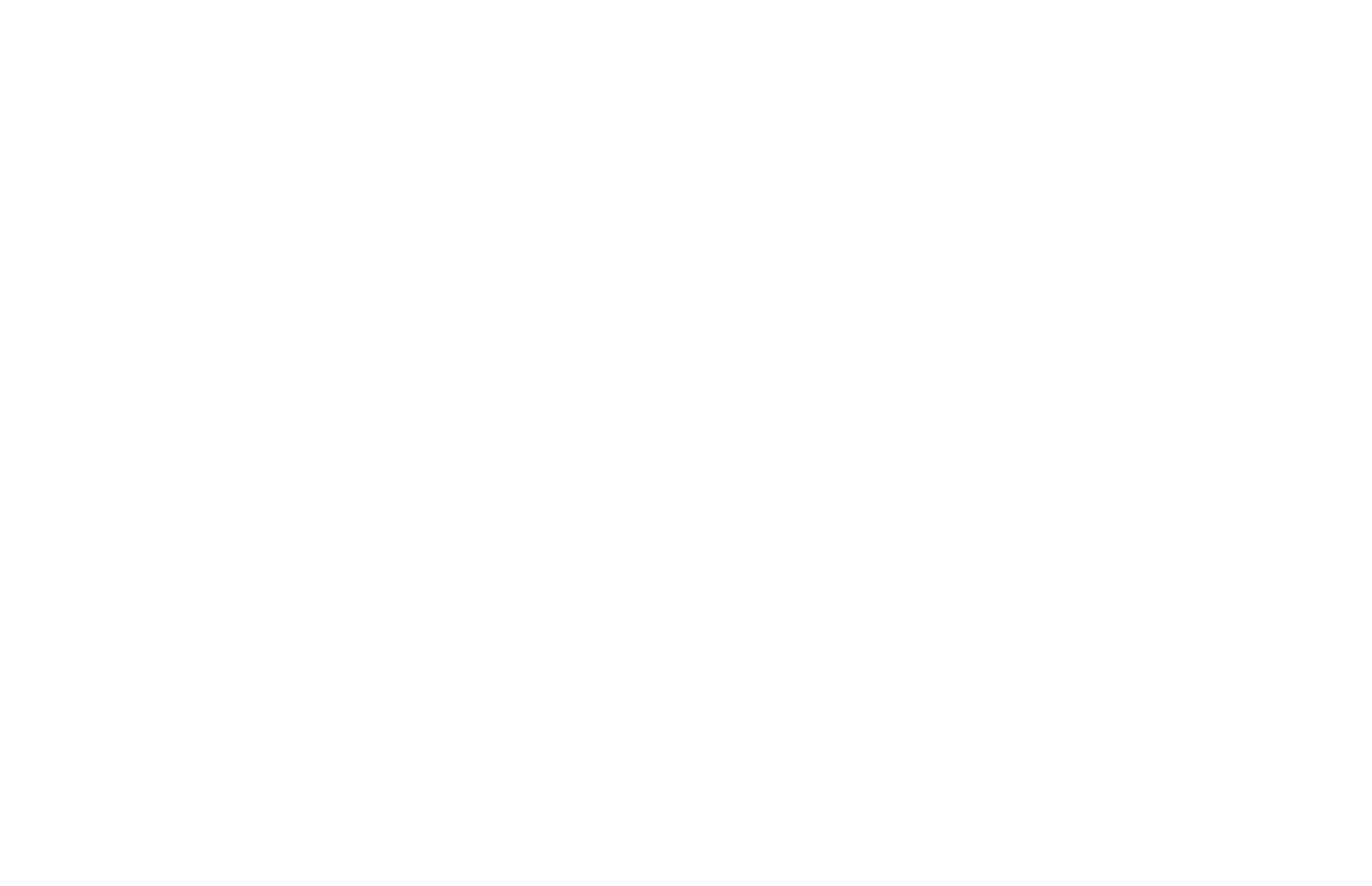
Вчера звонил отец, сказал, что Вика погибла. Покончила с собой. Это было утром, я только сел завтракать. А вечером общий с Викой знакомый, ее одноклассник, прислал ссылку на новость из Мосленты: "Покончившая с собой модель работала проституткой". Написано, что прыгнувшая с Большого Москворецкого моста погибла, ее опознали, это 26-летняя Вика, моя сестренка, за которую я переживал больше, чем мог бы любить сестру.
За полмесяца до последнего прыжка она прислала мне письмо. Отец его не открывал, думал, не срочно. Я попросил теперь прислать электронную копию. На почте в поселке ему помогли, и вот, распечатанный листок у меня. Одна строчка, написанная ее почерком. Почерк, такой же как в школе, и ее манера подписываться, обводя свое имя сердечком. "Лучше бы ты меня тогда не успел спасти. Вика". Она так и не повзрослела.
И вот, теперь уже что-либо исправить поздно. Я строил карьеру, добивался того, что есть у меня, всегда помня о нашем обещании вырваться из бедности. Она помогала мне в этом, наверное, не подозревая сама.
А вдруг она решила, что я позабыл о ней? Я никогда ведь не забывал. Чаще не хватало времени написать. Может она думала, что отец сразу сообщит мне о письме, и я брошусь на ее отчаянный крик "Саша!" и спасу ее?
Я до сих пор, когда закрываю глаза, перед тем, как уснуть, вижу, как она, моя задыхающаяся рыбка, летит в воду. А следом летят золотые волосы. Она написала мне, словно верила, что я что-то придумаю и вытащу ее, спасу. В том самом месте, где поворачивает река.
За полмесяца до последнего прыжка она прислала мне письмо. Отец его не открывал, думал, не срочно. Я попросил теперь прислать электронную копию. На почте в поселке ему помогли, и вот, распечатанный листок у меня. Одна строчка, написанная ее почерком. Почерк, такой же как в школе, и ее манера подписываться, обводя свое имя сердечком. "Лучше бы ты меня тогда не успел спасти. Вика". Она так и не повзрослела.
И вот, теперь уже что-либо исправить поздно. Я строил карьеру, добивался того, что есть у меня, всегда помня о нашем обещании вырваться из бедности. Она помогала мне в этом, наверное, не подозревая сама.
А вдруг она решила, что я позабыл о ней? Я никогда ведь не забывал. Чаще не хватало времени написать. Может она думала, что отец сразу сообщит мне о письме, и я брошусь на ее отчаянный крик "Саша!" и спасу ее?
Я до сих пор, когда закрываю глаза, перед тем, как уснуть, вижу, как она, моя задыхающаяся рыбка, летит в воду. А следом летят золотые волосы. Она написала мне, словно верила, что я что-то придумаю и вытащу ее, спасу. В том самом месте, где поворачивает река.