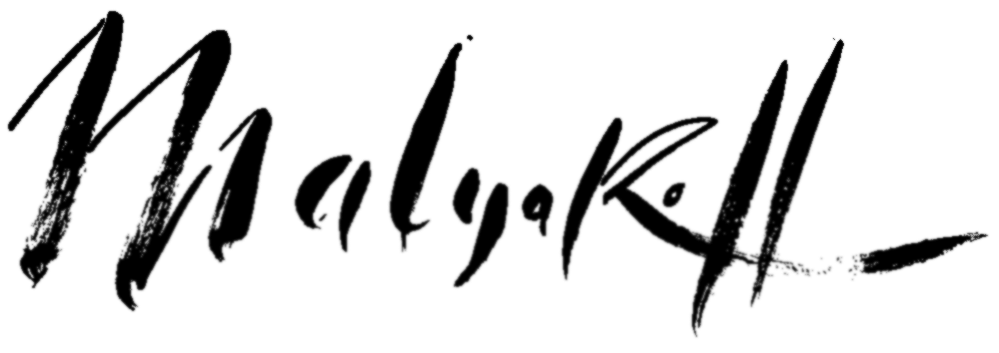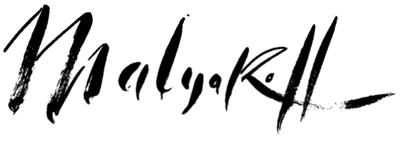Прогресс – одно из фундаментальных понятий мировой культуры, но его содержание далеко не однозначно. Как отмечает философ Михаил Эпштейн, такие “первопонятия” широко употребляются, но трудно поддаются однозначному определению . В самом общем смысле прогресс подразумевает поступательное развитие, направленное к лучшему. Его можно определить как процесс, проходящий через последовательные этапы, каждый следующий из которых качественно превосходит предыдущие . Иными словами, прогресс – это необратимое и закономерное движение вперёд, улучшение, благодаря которому «завтра будет лучше, чем сегодня» . Данное понятие включает описательный аспект (изменение во времени в определённом направлении) и ценностный аспект (это изменение расценивается как улучшение) . Однако представления о том, что именно считается “лучшим” и является ли прогресс необходимым и бесконечным, существенно различаются в разные эпохи. Ниже рассмотрены истоки концепции прогресса, её расцвет в Новое время и критический пересмотр в новейшей мысли – с опорой на философские, исторические и религиозные источники.
1. Исторические корни идеи прогресса
Античные представления: цикличность и золотой век
В древних цивилизациях не существовало идеи прогресса в современном смысле – время мыслилось скорее циклично. Для античных греков подлинно реальным было лишь вечное и неизменное космическое устройство . Мироустройство понималось как циклическое возвращение к исходному состоянию: любые подъёмы и упадки происходят внутри одного вечного кругооборота . Миф о золотом веке описывал изначальную эпоху счастья, за которой следуют века деградации (серебряный, медный, героический, железный) – эта теория смены веков изложена ещё Гесиодом . В римской литературе (у Вергилия) ожидалось возвращение золотого века, но опять-таки в рамках повторяющегося цикла . Таким образом, античное сознание обычно помещало идеал в прошлое. Предопределенность событий мыслилась идущей из прошлого, от первоначального порядка (недаром слово «архэ» означало и начало, и власть) , а не из образа будущего. Хотя философы классической Греции (Платон, Аристотель) рассуждали о развитии общества и смене государственных форм, эти изменения понимались либо как утрата изначальной гармонии, либо как циклическое чередование государственных укладов. Например, Платон в «Государстве» описывает деградацию идеального правления через ряд стадий, после чего цикл может повториться. Аристотель в «Политике» также признаёт смену форм правления по кругу (монархия – тирания – аристократия – олигархия – демократия – охлократия). В целом же античная философия истории не знала идеи поступательного улучшения человечества; напротив, время часто мыслилось как движение по кругу или как упадок от изначального совершенства.
Линейное время и христианская эсхатология
Радикальный поворот от циклизма к линейному пониманию времени происходит в рамках иудео-христианской традиции. Библия представляет историю как имеющую начало (творение мира) и движущуюся к определённой цели в будущем – к Страшному Суду и установлению Царства Божия. В библейском мировоззрении время – это развёртывание Божественного промысла: история приобретает смысл как последовательность событий, ведущих к спасению. Золотой век переносится с прошлого на будущее: «конец времён» мыслится не катастрофой, а исполнением надежд праведников. Как пишет исследователь А. де Бенуа, в Библии история становится «динамикой прогресса, которая в мессианской перспективе ведет к наступлению нового мира» . Уже в Книге Бытия человеку даётся мандат «господствовать на Земле», т.е. преобразовывать мир . Время наделяется направленностью: от сотворения – к грехопадению – к Искуплению и далее ко Второму пришествию. Таким образом, линейная парадигма утверждает необратимость истории и её устремлённость к высшей цели. Христианство вводит и ценностное измерение истории: происходящее – не просто смена эпох, но движение к лучшему, к окончательной победе добра (хотя и через испытания Апокалипсиса).
Особую роль в осмыслении исторического процесса сыграл блаженный Августин (IV–V вв.). В сочинении «О граде Божием» Августин впервые применил библейскую линейную схему ко всемирной истории человечества, предложив схему последовательных эпох и утверждая, что от века к веку мир движется к лучшему . У Августина земная история противостоит небесному «Граду Божьему», но тем не менее она полна смысла, поскольку ведёт к религиозной цели. Эта идея прогресса к божественному замыслу впоследствии была воспринята как основа для светских теорий истории. Именно августиновская мысль, что человечество взрослеет и совершенствуется по мере приближения к концу времён, дала исходный импульс европейской идее прогресса. В Средние века она существовала в религиозной форме – например, хилиастические ожидания тысячелетнего Царства Христова (отсылка к Апокалипсису). Богослов XIII в. Иоахим Флорский развил учение о трёх эпохах (Ветхого Закона, Нового Закона и грядущего «века Духа»), фактически секуляризовав августиновскую модель . Хотя официальная церковь осудила крайности хилиазма, сама идея направленной истории укоренилась: история рассматривалась как драматический, но осмысленный процесс, имеющий божественную цель.
Восточное христианство и идея преображения мира
Восточное христианство (православие) также восприняло библейскую линейность времени и эсхатологию, но внесло свои акценты. В византийско-православной традиции большее внимание уделялось личному духовному преображению и мистическому единению с Богом (теosis), нежели социальному прогрессу на земле. История понималась как арена борьбы добра и зла, которая завершится лишь при Втором пришествии; задача человека – стяжание святости внутри истории, а не построение “рая” своими силами. Тем не менее, восточнохристианская мысль не была чужда идее постепенного созидания лучшего. В Византии утвердилось представление о Римской (Византийской) империи как о «удерживающем» порядке, предотвращающем хаос до конца времён – своего рода прообразе Царства Божия на земле. В позднейшей русской религиозной философии (Фёдоров, Соловьёв, Бердяев) под влиянием православия возникли оригинальные учения о возможном прогрессивном развитии человечества в духе христианских идеалов (например, идея всеобщего братства, «соборности», преображения природы и даже телесного воскресения у Николая Фёдорова). Хотя православное богословие традиционно настороженно относится к утопиям и секулярному прогрессизму, оно внесло вклад в формирование моральных ориентиров прогресса – идеалов любви, милосердия, единения, которые затем были восприняты светскими концепциями улучшения общества.
Прогресс в нехристианских традициях: циклы и гармония
Во многих нехристианских культурах доминировало циклическое восприятие времени, несовместимое с идеей поступательного всемирного прогресса. Так, в индуизме и буддизме история мыслится как бесконечный цикл юг и кальп. Индуистские источники говорят о четырёх югах внутри каждого мирового цикла – от совершенной Сатья-юги (золотого века) до тёмной Кали-юги – после чего мир обновляется и цикл начинается заново . В каждой следующей юге добродетель уменьшается, а невежество возрастает, пока в финале Кали-юги не явится аватар, восстанавливающий порядок и запускающий новый цикл . Нет представления, что каждый цикл “лучше” предыдущего – напротив, время в масштабах космоса беспощадно повторяет подъём и спад. Буддизм также учит о бесконечном круговороте сансары – рождении и умирании миров без начала и конца. Хотя буддизм знает понятие духовного прогресса личности (путь к просветлению), на уровне всемирной истории он не обещает нарастающего благополучия. Буддийские легенды (например, о грядущем Будде Майтрейе) пророчат возрождение истинного учения после периода упадка, то есть снова цикличность, а не линейный взлёт цивилизации.
В китайской философии время также рассматривалось циклично. Конфуцианство идеализировало древность (эпоху легендарных праведных императоров Яо и Шуня) и призывало возвращаться к добродетелям предков. История Китая виделась как чередование династий, сменяющих друг друга по закону Мандата Неба: каждая новая династия восстанавливает порядок, но со временем вырождается, и ей на смену приходит новая – циклический круговорот порядка и хаоса. Ни даосизм, ни конфуцианство не постулировали, что человечество в целом неуклонно прогрессирует; скорее стремились к гармонии с дао или к восстановлению утраченного космического равновесия. В целом для традиционного Востока характерно представление об истории как о повторяющемся процессе. Даже в исламе, который разделяет с христианством линейную схемуку от сотворения мира к Судному дню, отсутствует идея, что каждое последующее поколение превосходит предыдущее. Мусульманские мыслители чаще говорили о возврате общества к чистоте первоначального ислама (например, реформаторы-муджаддиды должны были появляться каждые сто лет, чтобы обновлять веру). Средневековые исламские историки (Ибн Халдун) рассматривали историю династий как цикл зарождения, расцвета и упадка государств. Современные исследователи отмечают: «если в христианстве есть идея восходящего движения, то в исламе этого нет, и одна история повторяется постоянно» . Таким образом, вне библейской традиции идея непрерывного улучшения мира встречалась редко – преобладали либо циклы, либо представления о деградации по мере удаления от сакрального истока.
2. Эпоха Нового времени и модерна: рождение идеологии прогресса
Просвещение: вера в неуклонное совершенствование
Идея прогресса в её современном виде складывается в эпоху Модерна, прежде всего в Европейском Просвещении XVIII века. Именно тогда впервые была чётко сформулирована мысль, что все человечество движется единым шагом к лучшему будущему. Французские просветители открыто полемизировали с культом античности: в знаменитом «споре древних и новых» (1680-е гг.) они отстаивали превосходство современности над прошлым . Шарль Перро, аббат де Сен-Пьер, позже Вольтер, Тюрго, Кондорсе – многие утверждали, что «мы, современные, превзошли древних». В 1750 г. Анн Робер Тюрго провозгласил: «вся совокупность рода человеческого постоянно идёт к всё большему совершенству» . Маркиз де Кондорсе в трактате «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1794) нарисовал оптимистическую картину поступательного развития от дикости к грядущему торжеству разума, науки и справедливости. В этом взгляде история человечества уподоблялась биографии: у человечества есть детство (дикость), юность (эпоха становления наук и искусств) и зрелость (рациональное просвещённое состояние) . Развитие мыслилось непрерывным и ускоряющимся – «прогресс не знает преград». Кондорсе даже предсказывал, что при сохранении свободы и просвещения грядущие поколения одолеют болезни, продлят человеческую жизнь и установят справедливый общественный строй – вплоть до равенства полов и отказа от рабства (что для XVIII в. звучало утопично, но во многом сбылось).
Вера эпохи Просвещения базировалась на нескольких ключевых идеях. Разум и наука – главные двигатели прогресса: чем больше знаний, тем больше власть человека над природой и самим собой. Ещё Френсис Бэкон в начале XVII в. провозгласил знание силой и впервые употребил слово «прогресс» преимущественно во временном смысле (прогресс знаний во времени, а не лишь движение в пространстве) . Он утверждал, что человеку предназначено господствовать над природой, познавая её законы . Так закладывается утопия научного и технического прогресса: открытия Коперника, Галилея, Ньютона убеждают европейцев, что человеческий разум способен бесконечно продвигать границы познанного. Одновременно утверждается идея морального прогресса: просвещённые философы (Дидро, Руссо, Кант) верили, что с развитием разума и образования человечество станет гуманнее, избавится от предрассудков, войн и тирании. Например, Кант в трактате «Идея всеобщей истории…» (1784) рассуждал о «замысле природы» привести человека к общественному устроению на основе разума и права (гражданскому обществу и “вечному миру”). Просвещенческий проект прогресса был универсалистским: считалось, что все народы идут по одной лестнице развития (хотя и с разной скоростью), от варварства к цивилизации. Именно в XVIII в. возникло понятие «цивилизация» как степени культурного развития, которого могут достичь все общества. Этот подход имел и обратную сторону – европоцентризм: европейская цивилизация объявлялась наиболее продвинутой, а остальные рассматривались как более «отсталые» стадии единой шкалы. Так идея прогресса приобретала нормативный характер – служила обоснованием колонизации и «миссии просвещения» в колониях , ведь распространение европейской культуры виделось благом для тех, кто стоял на более низкой ступени.
Научно-технический прогресс и секуляризация надежды
В XIX в. идея прогресса превращается в своего рода мирскую религию. Отчасти это было подготовлено ещё поздним Просвещением: философия истории выдвинулась на первый план. Гегель в своих лекциях (1830-е гг.) представил всемирную историю как закономерный прогрессивный процесс – «мировой дух» последовательно раскрывает себя в сменяющихся эпохах и культурах, приближаясь к полноте самосознания и свободе. Хотя Гегель допускал временные регрессы и отрицал простую линейность, он твёрдо верил в конечный триумф Разума в истории . Вслед за Гегелем многие мыслители искали “законы” исторического развития. Позитивист Огюст Конт провозгласил «религию прогресса» и учение о трёх стадиях (теологической, метафизической, позитивной) – человечество, по Конту, проходит закономерный путь от религиозно-мифологического сознания к научному мышлению . Термины «прогресс» и «цивилизация» стали почти синонимами, а сама история – синонимом прогресса . Эта убеждённость отражала и дух эпохи: бурное развитие промышленности, техники, рост городов и знаний в XIX веке казались явным доказательством непрерывного улучшения условий жизни. Индустриальная революция сопровождалась секуляризацией представлений о будущем: рай и спасение перестали быть исключительно религиозными категориями, надежды перенеслись на земное будущее, которое человек творит сам.
С прогрессом науки связалось представление о неограниченном росте материального благосостояния. Экономисты-классики (Адам Смит, Д. Рикардо, позже Маркс) рассматривали историю как поступательное развитие производительных сил и обмена, что ведёт к увеличению богатства народов. Появляется эволюционная теория Чарльза Дарвина (1859), которая в популярном восприятии укрепляет веру в “восходящую” схему развития живого мира – от простого к сложному, от низшего к высшему. Хотя сам Дарвин избегал телеологических оценок, его последователи (социал-дарвинисты, спенсерианцы) стали говорить о “выживании наиболее приспособленных” как о естественном прогрессе природы и общества. Во второй половине XIX в. прогрессистский оптимизм несколько охладевает – сказывается разочарование в результатах буржуазных революций, социальные проблемы индустриализации. Тем не менее, до около 1860-х годов сомнения в идее прогресса были редки: господствовало убеждение, что человечество движется по восходящей линии . Даже революционный мыслитель Карл Маркс разделял веру в историческую закономерность развития, хотя внёс коррективы: он подчёркивал неравномерность и конфликтность прогресса (через борьбу классов) и признавал, что разные общества могут идти разными путями (многолинейность истории) . Но конечная цель у Маркса тоже была прогрессивной – коммунистическое бесклассовое общество как логический итог развития производительных сил.
К концу XIX века происходят важные сдвиги: идея бесконечного прогресса подвергается первым серьёзным атакам. Фридрих Ницше (1880-е) саркастически отнёсся к «религии прогресса», заявив, что она – лишь новая утопия. Он утверждал, что никакого объективного поступательного возвышения нет: человечество либо топчется на месте, повторяя одни и те же этапы, либо деградирует . Особый пафос Ницше направил против христианской морали, которая, по его мнению, препятствует естественному отбору и развитию сильных личностей – тем самым прогресс, основанный на «рабской морали», оборачивается регрессом. Под влиянием дарвинизма и песимизма Шопенгауэра возникает образ мира как арены бессмысленной борьбы, не ведущей к улучшению. Одновременно в научной среде появляются первые предостережения: английский экономист Томас Мальтус ещё в 1798 г. предсказал, что рост населения обгонит рост производства продовольствия, что грозит человечеству катастрофой . Мальтус тем самым стоял у истоков страха перед прогрессом, показав, что у технического и социального развития могут быть пределы . Ещё один удар по наивной вере в автоматическое улучшение нанёс Чарльз Дарвин: хотя эволюцию стали истолковывать как прогресс, выяснилось, что она не имеет цели и не гарантирует “улучшения” (она лишь приспособляет виды к среде, а моральные или социальные ценности к ней неприменимы). К рубежу XX века оптимизм Просвещения заметно померк – впереди был век мировых войн и тоталитарных экспериментов, окончательно поставивших под вопрос линию неуклонного прогресса.
3. Современные критики концепции прогресса
Постмодернизм: конец «больших нарративов»
После ужасов первой половины XX века (войны, геноцид, тоталитаризм) многие мыслители заговорили о кризисе самой идеи прогресса. Философы постмодернистского направления деконструировали просветительский “миф” о поступательном развитии. Жан-Франсуа Лиотар в труде «Состояние постмодерна» (1979) объявил о «недоверии к большим нарративам» – то есть к универсальным идеям вроде Истории с большой буквы, ведущей человечество к освобождению . Нарратив прогресса, по Лиотару, – это всего лишь одна из метанараций модерна, утратившая убедительность. Постмодернисты вообще известны неприятием понятия прогресса в истории: они утверждают, что развитие знания и общества не является однозначно прогрессивным . Мишель Фуко предложил вместо линейной истории «генеалогию» – исследование дискретных исторических эпизодов и разрывов в эпистеме. В интервью 1977 г. Фуко пояснял, что его позиция – это скепсис в отношении самого себя и своего настоящего, не позволяющий предполагать, будто нынешнее состояние лучше прошлого лишь по факту хронологии . Он призывал отказаться от поисков «телеологической прогрессии» в истории знаний . Тем самым разоблачалась просветительская вера, что история науки – это накопление истины: вместо этого Фуко показывал, как меняются сами режимы истины и власти. Еще раньше, в «Диалектике Просвещения» (1947), представители Франкфуртской школы Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно подвергли суровой критике понятие прогресса через разум: по их мнению, разум Просвещения обернулся новым мифом и средством угнетения – вместо освобождения человечество получило лагеря и бомбы. Они указали на парадокс: технический и научный прогресс не гарантирует морального роста, а может служить силам зла (напр. бюрократическая рациональность сделала возможным Холокост). Вслед за ними социолог Зигмунд Бауман говорил о “модерне как холокосте”, намекая, что величайшее преступление стало продуктом именно модернистского стремления переделать общество “к лучшему”. Жан Бодрийяр довёл сомнения до радикализма, утверждая, что в эпоху всеобщей симуляции сама реальность истории исчезает. В работах Бодрийяра (например, «Симулякры и симуляция», 1981) проводится мысль, что современная цивилизация, поглощённая моделями и образами, утрачивает вектор развития – прогресс становится иллюзорным, растворяясь в круговороте симулякров. Таким образом, постмодернистская философия в разных формах отрицает старый идеал непрерывного восхождения человечества: вместо него акцентируются множественность, фрагментарность и неоднозначность исторического процесса.
Технологический прогресс: благо или угроза?
Научно-технический прогресс, долго воспринимавшийся как двигатель всеобщего улучшения, во второй половине XX – начале XXI вв. стал рассматриваться двояко: с одной стороны, он дал колоссальный рост производительности, знаний, уровня комфорта и медицины; с другой – породил новые глобальные угрозы. Уже с середины XX в. человечество осознало, что изобретение ядерного оружия поставило цивилизацию на грань самоуничтожения. В 1945 г., сразу после атомных бомбардировок, философ Карл Ясперс ввёл понятие «осевое время»: он утверждал, что с созданием ядерной бомбы история качественно изменилась, ибо впервые конец света стал делом рук человека, а не рока или божества. Так технология превратилась в риск планетарного масштаба. Вслед за ядерной угрозой появились и другие: опасность биотехнологических экспериментов, возможность утечки смертельных вирусов, перспектива неконтролируемого искусственного интеллекта. Если в оптимистическом XX в. фантасты мечтали о благих дарах техники (межзвёздные полёты, роботы-слуги и пр.), то популярная культура XXI в. полна технофобий: от восстания машин («Терминатор») до деградации человечества под властью виртуальной реальности («Матрица»). Многие мыслители заговорили о «пределах роста» и о ловушках прогресса. Например, концепция «прогрессорских ловушек» (Рональд Райт) описывает, как технологические новшества, решая одни проблемы, создают новые, ещё более опасные. Так, сельскохозяйственная революция увеличила население, но привела к войнам за ресурсы; промышленная революция улучшила благосостояние, но спровоцировала загрязнение и изменение климата. Современные философы техники (Мартин Хайдеггер, Жак Эллюль, Ханс Йонас) предупреждали, что техника обладает собственной логикой развития, не подчинённой человеческим ценностям . Техника растёт экспоненциально, тогда как мораль – эволюционирует медленно; возникает разрыв, чреватый обезличиванием человека. Гуманитарии заговорили о дегуманизации в технократическом обществе : машина и алгоритм всё больше определяют образ жизни, вытесняя живое человеческое общение. Возникает вопрос: является ли всякий прогресс – прогрессом для человека? Если новые технологии подрывают свободу, приватность, психическое здоровье (как, например, тотальная цифровая слежка или зависимость от гаджетов), можно ли называть их прогрессивными? Таким образом, технический прогресс перестал автоматически ассоциироваться с благом – его оценивают через призму этических последствий. Многие утверждают, что человечеству нужна не столько остановка прогресса, сколько его контроль и переосмысление: разработка глобальной этики ответственности (по Йонасу) и международных механизмов, гарантирующих, что открытия будут служить гуманным целям, а не разрушению.
Экологические вызовы и переосмысление прогресса
К концу XX века стало очевидно, что экспоненциальный промышленный рост привёл к экологическому кризису. Стремление человека покорять природу обернулось угрозой исчерпания ресурсов, утраты биоразнообразия и изменения климата. Ещё в 1972 г. Римский клуб опубликовал доклад «Пределы роста», где с помощью компьютерных моделей показал: если сохранятся прежние темпы экономического и демографического роста, то в XXI веке мир столкнётся с катастрофическим истощением ресурсов и загрязнением среды. Эти прогнозы заставили задуматься о том, что идея бесконечного прогресса – особенно в виде бесконечного экономического роста – физически несостоятельна на планете с конечными ресурсами. Заговорили о необходимости устойчивого развития (sustainable development), то есть такого прогресса, который не разрушает природных основ жизни. В философском и общественном дискурсе появились новые концепции: «нулевой рост», «построст» (post-growth), переход от количественного роста к улучшению качества жизни. Многие экологи и мыслители (Сергей Подолинский ещё в XIX в., в XX в. Николас Георгеску-Рёген, в наши дни – Наоми Кляйн и др.) критиковали культ потребления и бесконечного производства. Они предлагали измерять прогресс не объемом потребления, а более тонкими критериями – счастьем, здоровьем экосистем, устойчивостью сообществ. Действительно, во второй половине XX в. скепсис в отношении идеи автоматического прогресса стал массовым: историки культуры говорят о «смене парадигмы» – от веры в прогресс к постистории, где будущее видится неопределённым или тревожным. С 1990-х годов некоторые мыслители (Фрэнсис Фукуяма и др.) и вовсе заговорили о «конце истории» – мол, с глобальной победой либеральной демократии человечество достигло финальной формы развития и впереди не столько прогресс, сколько управление устойчивостью. Хотя эта точка зрения спорна, она отражает разочарование в идеалах XIX века. Согласно опросам, многие современные люди не уверены, что жизнь их детей будет лучше, чем их собственная – столь сильна утрата веры в автоматический прогресс. Вместо этого внимание сместилось к локальным улучшениям и качеству жизни здесь и сейчас, а не к утопическим проектам перестройки мира.
Утопии и антиутопии: пределы и опасности прогресса
Литература и социальная мысль последних веков ярко отражают изменчивое отношение к прогрессу. В утопиях Нового времени – от классической «Утопии» Томаса Мора (1516) до утопического социализма XIX века – выражалась надежда на идеальное общество в будущем, достижимое разумным устройством. Например, utopian социалисты (Сен-Симон, Фурье) рисовали картины гармоничного индустриального общества, где научно-технический прогресс приносит изобилие и справедливость. Однако уже в XIX веке появляются предупреждения: Мальтус, как отмечалось, критиковал оптимизм Кондорсе , а Достоевский в «Записках из подполья» (1864) саркастически высмеял веру утопистов в «хрустальный дворец» рационального счастья. В XX веке жанр антиутопии расцвёл, став художественной формой критики прогресса. Евгений Замятин в романе «Мы» (1920) показал технократическое будущее: человечество достигло невероятного научного прогресса, но ценой тоталитарного подавления личности и чувств. Герои Замятина живут в стеклянном городе-машине, где жизнь полностью регламентирована во имя всеобщего благоденствия – и бунтуют именно во имя права на ошибку и свободу. Олдос Хаксли в «О дивный новый мир» (1932) создал образ общества потребления и биотехнологий, где люди выведены в инкубаторах и «запрограммированы» на довольство своим положением. Хаксли тем самым сатирически атаковал прогресс в целом и преклонение перед всемогущей наукой , показывая обезличенное «счастье», лишённое духовности и свободы. Джордж Оруэлл в антиутопии «1984» (1949) изобразил крайнюю форму тоталитаризма, сопровождаемого технологией слежки: его главный герой осознаёт ужас не только тирании, но и уничтожения самой истины (переписывание истории, язык новояза) – что тоже порождение извращённого «прогресса» в управлении массами. Анализируя эти произведения, исследователи отмечают глубочайшее разочарование их авторов в просвещенческих идеалах . Хаксли и Оруэлл, пережив ужасы войны и диктатур, сомневались, что прогресс ведёт к счастью: напротив, у них будущее мрачнее настоящего. Антиутопии в последующие десятилетия только укрепились как предупреждение: от Брэдбери («451° по Фаренгейту», 1953) до фильмов вроде «Метрополис» или «Бразилия» – все они обнажают проблемы, порождённые неконтролируемым стремлением улучшить общество или природу человека. Утопия оборачивается антиутопией, если забыть о моральных ограничениях прогресса – таков урок этого жанра.
Характерно, что в самом конце ХХ – начале XXI вв., на фоне научных триумфов (расшифровка генома, интернет, космические исследования), происходит и своего рода реабилитация идеи прогресса в отдельных кругах. Появляются неоуточные проекты – от движения эффективного альтруизма до трансгуманизма – предлагающие сознательно направлять прогресс на преодоление болезней, старения, установление глобального благополучия. Эти проекты вобрали уроки прошлых критиков: например, трансгуманисты признают риски ИИ и пытаются их минимизировать, а утописты нового типа говорят не о мгновенном рае на земле, а о постепенных улучшениях с опорой на науку и этику. Тем не менее, главный вывод современной мысли: прогресс неоднороден и не автоматичен. Он возможен, но не гарантирован; он многомерен (технический, социальный, моральный – могут идти вразнобой); он зависит от выбора людей и подчинён ценностям. Концепция прогресса из веры превратилась в проблему для размышления. Как писал русский философ Семён Франк в 1930-е, вера в постоянное совершенствование человечества, которая вдохновляла прошлые эпохи, оказалась наивной – события ХХ века не позволяют говорить о движении только “вперёд к свету”, часто речь идёт просто о сохранении человеческого облика . Сегодня, переживая сложные цивилизационные кризисы, человечество переосмысливает прогресс: от прежнего оптимизма осталась, пожалуй, настойчивая надежда – но соединённая с трезвым пониманием рисков и с ответственностью за будущие последствия каждого “шагa вперёд”.
Источники:
1. Эпштейн М. Первопонятия. Ключи к культурному коду. – М.: КоЛибри, 2022 .
2. Ален де Бенуа. Краткая история идеи прогресса (пер. с фр. – Kratkaya istoriya idei progressa).
3. Родичева И. С., Суханова Н. П. Генезис идеи общественного прогресса в историко-философской мысли // Проблемы современного образования, 2020 .
4. Библия. Ветхий и Новый Завет (кн. Бытия, Откровение Иоанна Богослова) – линейное понимание истории, эсхатология.
5. Блаж. Августин. О граде Божьем – обоснование поступательного развития «града земного» к божественной цели .
6. Joachim of Fiore (Иоахим Флорский). Учение о трёх эпохах – раннехристианская утопия истории .
7. Condorcet J.-A. Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1794 – утопия прогресса разума (очерк прогресса человеческого духа).
8. Lyotard J.-F. La Condition postmoderne, 1979 – постмодернистская критика метанарратива прогресса .
9. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения, 1947 – о самоуничтожении просвещения и кризисе идеи прогресса.
10. Замятин Е. Мы, 1920; Хаксли О. Brave New World, 1932; Оруэлл Дж. 1984, 1949 – антиутопии, вскрывающие опасности технократического “рая” .
1. Исторические корни идеи прогресса
Античные представления: цикличность и золотой век
В древних цивилизациях не существовало идеи прогресса в современном смысле – время мыслилось скорее циклично. Для античных греков подлинно реальным было лишь вечное и неизменное космическое устройство . Мироустройство понималось как циклическое возвращение к исходному состоянию: любые подъёмы и упадки происходят внутри одного вечного кругооборота . Миф о золотом веке описывал изначальную эпоху счастья, за которой следуют века деградации (серебряный, медный, героический, железный) – эта теория смены веков изложена ещё Гесиодом . В римской литературе (у Вергилия) ожидалось возвращение золотого века, но опять-таки в рамках повторяющегося цикла . Таким образом, античное сознание обычно помещало идеал в прошлое. Предопределенность событий мыслилась идущей из прошлого, от первоначального порядка (недаром слово «архэ» означало и начало, и власть) , а не из образа будущего. Хотя философы классической Греции (Платон, Аристотель) рассуждали о развитии общества и смене государственных форм, эти изменения понимались либо как утрата изначальной гармонии, либо как циклическое чередование государственных укладов. Например, Платон в «Государстве» описывает деградацию идеального правления через ряд стадий, после чего цикл может повториться. Аристотель в «Политике» также признаёт смену форм правления по кругу (монархия – тирания – аристократия – олигархия – демократия – охлократия). В целом же античная философия истории не знала идеи поступательного улучшения человечества; напротив, время часто мыслилось как движение по кругу или как упадок от изначального совершенства.
Линейное время и христианская эсхатология
Радикальный поворот от циклизма к линейному пониманию времени происходит в рамках иудео-христианской традиции. Библия представляет историю как имеющую начало (творение мира) и движущуюся к определённой цели в будущем – к Страшному Суду и установлению Царства Божия. В библейском мировоззрении время – это развёртывание Божественного промысла: история приобретает смысл как последовательность событий, ведущих к спасению. Золотой век переносится с прошлого на будущее: «конец времён» мыслится не катастрофой, а исполнением надежд праведников. Как пишет исследователь А. де Бенуа, в Библии история становится «динамикой прогресса, которая в мессианской перспективе ведет к наступлению нового мира» . Уже в Книге Бытия человеку даётся мандат «господствовать на Земле», т.е. преобразовывать мир . Время наделяется направленностью: от сотворения – к грехопадению – к Искуплению и далее ко Второму пришествию. Таким образом, линейная парадигма утверждает необратимость истории и её устремлённость к высшей цели. Христианство вводит и ценностное измерение истории: происходящее – не просто смена эпох, но движение к лучшему, к окончательной победе добра (хотя и через испытания Апокалипсиса).
Особую роль в осмыслении исторического процесса сыграл блаженный Августин (IV–V вв.). В сочинении «О граде Божием» Августин впервые применил библейскую линейную схему ко всемирной истории человечества, предложив схему последовательных эпох и утверждая, что от века к веку мир движется к лучшему . У Августина земная история противостоит небесному «Граду Божьему», но тем не менее она полна смысла, поскольку ведёт к религиозной цели. Эта идея прогресса к божественному замыслу впоследствии была воспринята как основа для светских теорий истории. Именно августиновская мысль, что человечество взрослеет и совершенствуется по мере приближения к концу времён, дала исходный импульс европейской идее прогресса. В Средние века она существовала в религиозной форме – например, хилиастические ожидания тысячелетнего Царства Христова (отсылка к Апокалипсису). Богослов XIII в. Иоахим Флорский развил учение о трёх эпохах (Ветхого Закона, Нового Закона и грядущего «века Духа»), фактически секуляризовав августиновскую модель . Хотя официальная церковь осудила крайности хилиазма, сама идея направленной истории укоренилась: история рассматривалась как драматический, но осмысленный процесс, имеющий божественную цель.
Восточное христианство и идея преображения мира
Восточное христианство (православие) также восприняло библейскую линейность времени и эсхатологию, но внесло свои акценты. В византийско-православной традиции большее внимание уделялось личному духовному преображению и мистическому единению с Богом (теosis), нежели социальному прогрессу на земле. История понималась как арена борьбы добра и зла, которая завершится лишь при Втором пришествии; задача человека – стяжание святости внутри истории, а не построение “рая” своими силами. Тем не менее, восточнохристианская мысль не была чужда идее постепенного созидания лучшего. В Византии утвердилось представление о Римской (Византийской) империи как о «удерживающем» порядке, предотвращающем хаос до конца времён – своего рода прообразе Царства Божия на земле. В позднейшей русской религиозной философии (Фёдоров, Соловьёв, Бердяев) под влиянием православия возникли оригинальные учения о возможном прогрессивном развитии человечества в духе христианских идеалов (например, идея всеобщего братства, «соборности», преображения природы и даже телесного воскресения у Николая Фёдорова). Хотя православное богословие традиционно настороженно относится к утопиям и секулярному прогрессизму, оно внесло вклад в формирование моральных ориентиров прогресса – идеалов любви, милосердия, единения, которые затем были восприняты светскими концепциями улучшения общества.
Прогресс в нехристианских традициях: циклы и гармония
Во многих нехристианских культурах доминировало циклическое восприятие времени, несовместимое с идеей поступательного всемирного прогресса. Так, в индуизме и буддизме история мыслится как бесконечный цикл юг и кальп. Индуистские источники говорят о четырёх югах внутри каждого мирового цикла – от совершенной Сатья-юги (золотого века) до тёмной Кали-юги – после чего мир обновляется и цикл начинается заново . В каждой следующей юге добродетель уменьшается, а невежество возрастает, пока в финале Кали-юги не явится аватар, восстанавливающий порядок и запускающий новый цикл . Нет представления, что каждый цикл “лучше” предыдущего – напротив, время в масштабах космоса беспощадно повторяет подъём и спад. Буддизм также учит о бесконечном круговороте сансары – рождении и умирании миров без начала и конца. Хотя буддизм знает понятие духовного прогресса личности (путь к просветлению), на уровне всемирной истории он не обещает нарастающего благополучия. Буддийские легенды (например, о грядущем Будде Майтрейе) пророчат возрождение истинного учения после периода упадка, то есть снова цикличность, а не линейный взлёт цивилизации.
В китайской философии время также рассматривалось циклично. Конфуцианство идеализировало древность (эпоху легендарных праведных императоров Яо и Шуня) и призывало возвращаться к добродетелям предков. История Китая виделась как чередование династий, сменяющих друг друга по закону Мандата Неба: каждая новая династия восстанавливает порядок, но со временем вырождается, и ей на смену приходит новая – циклический круговорот порядка и хаоса. Ни даосизм, ни конфуцианство не постулировали, что человечество в целом неуклонно прогрессирует; скорее стремились к гармонии с дао или к восстановлению утраченного космического равновесия. В целом для традиционного Востока характерно представление об истории как о повторяющемся процессе. Даже в исламе, который разделяет с христианством линейную схемуку от сотворения мира к Судному дню, отсутствует идея, что каждое последующее поколение превосходит предыдущее. Мусульманские мыслители чаще говорили о возврате общества к чистоте первоначального ислама (например, реформаторы-муджаддиды должны были появляться каждые сто лет, чтобы обновлять веру). Средневековые исламские историки (Ибн Халдун) рассматривали историю династий как цикл зарождения, расцвета и упадка государств. Современные исследователи отмечают: «если в христианстве есть идея восходящего движения, то в исламе этого нет, и одна история повторяется постоянно» . Таким образом, вне библейской традиции идея непрерывного улучшения мира встречалась редко – преобладали либо циклы, либо представления о деградации по мере удаления от сакрального истока.
2. Эпоха Нового времени и модерна: рождение идеологии прогресса
Просвещение: вера в неуклонное совершенствование
Идея прогресса в её современном виде складывается в эпоху Модерна, прежде всего в Европейском Просвещении XVIII века. Именно тогда впервые была чётко сформулирована мысль, что все человечество движется единым шагом к лучшему будущему. Французские просветители открыто полемизировали с культом античности: в знаменитом «споре древних и новых» (1680-е гг.) они отстаивали превосходство современности над прошлым . Шарль Перро, аббат де Сен-Пьер, позже Вольтер, Тюрго, Кондорсе – многие утверждали, что «мы, современные, превзошли древних». В 1750 г. Анн Робер Тюрго провозгласил: «вся совокупность рода человеческого постоянно идёт к всё большему совершенству» . Маркиз де Кондорсе в трактате «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1794) нарисовал оптимистическую картину поступательного развития от дикости к грядущему торжеству разума, науки и справедливости. В этом взгляде история человечества уподоблялась биографии: у человечества есть детство (дикость), юность (эпоха становления наук и искусств) и зрелость (рациональное просвещённое состояние) . Развитие мыслилось непрерывным и ускоряющимся – «прогресс не знает преград». Кондорсе даже предсказывал, что при сохранении свободы и просвещения грядущие поколения одолеют болезни, продлят человеческую жизнь и установят справедливый общественный строй – вплоть до равенства полов и отказа от рабства (что для XVIII в. звучало утопично, но во многом сбылось).
Вера эпохи Просвещения базировалась на нескольких ключевых идеях. Разум и наука – главные двигатели прогресса: чем больше знаний, тем больше власть человека над природой и самим собой. Ещё Френсис Бэкон в начале XVII в. провозгласил знание силой и впервые употребил слово «прогресс» преимущественно во временном смысле (прогресс знаний во времени, а не лишь движение в пространстве) . Он утверждал, что человеку предназначено господствовать над природой, познавая её законы . Так закладывается утопия научного и технического прогресса: открытия Коперника, Галилея, Ньютона убеждают европейцев, что человеческий разум способен бесконечно продвигать границы познанного. Одновременно утверждается идея морального прогресса: просвещённые философы (Дидро, Руссо, Кант) верили, что с развитием разума и образования человечество станет гуманнее, избавится от предрассудков, войн и тирании. Например, Кант в трактате «Идея всеобщей истории…» (1784) рассуждал о «замысле природы» привести человека к общественному устроению на основе разума и права (гражданскому обществу и “вечному миру”). Просвещенческий проект прогресса был универсалистским: считалось, что все народы идут по одной лестнице развития (хотя и с разной скоростью), от варварства к цивилизации. Именно в XVIII в. возникло понятие «цивилизация» как степени культурного развития, которого могут достичь все общества. Этот подход имел и обратную сторону – европоцентризм: европейская цивилизация объявлялась наиболее продвинутой, а остальные рассматривались как более «отсталые» стадии единой шкалы. Так идея прогресса приобретала нормативный характер – служила обоснованием колонизации и «миссии просвещения» в колониях , ведь распространение европейской культуры виделось благом для тех, кто стоял на более низкой ступени.
Научно-технический прогресс и секуляризация надежды
В XIX в. идея прогресса превращается в своего рода мирскую религию. Отчасти это было подготовлено ещё поздним Просвещением: философия истории выдвинулась на первый план. Гегель в своих лекциях (1830-е гг.) представил всемирную историю как закономерный прогрессивный процесс – «мировой дух» последовательно раскрывает себя в сменяющихся эпохах и культурах, приближаясь к полноте самосознания и свободе. Хотя Гегель допускал временные регрессы и отрицал простую линейность, он твёрдо верил в конечный триумф Разума в истории . Вслед за Гегелем многие мыслители искали “законы” исторического развития. Позитивист Огюст Конт провозгласил «религию прогресса» и учение о трёх стадиях (теологической, метафизической, позитивной) – человечество, по Конту, проходит закономерный путь от религиозно-мифологического сознания к научному мышлению . Термины «прогресс» и «цивилизация» стали почти синонимами, а сама история – синонимом прогресса . Эта убеждённость отражала и дух эпохи: бурное развитие промышленности, техники, рост городов и знаний в XIX веке казались явным доказательством непрерывного улучшения условий жизни. Индустриальная революция сопровождалась секуляризацией представлений о будущем: рай и спасение перестали быть исключительно религиозными категориями, надежды перенеслись на земное будущее, которое человек творит сам.
С прогрессом науки связалось представление о неограниченном росте материального благосостояния. Экономисты-классики (Адам Смит, Д. Рикардо, позже Маркс) рассматривали историю как поступательное развитие производительных сил и обмена, что ведёт к увеличению богатства народов. Появляется эволюционная теория Чарльза Дарвина (1859), которая в популярном восприятии укрепляет веру в “восходящую” схему развития живого мира – от простого к сложному, от низшего к высшему. Хотя сам Дарвин избегал телеологических оценок, его последователи (социал-дарвинисты, спенсерианцы) стали говорить о “выживании наиболее приспособленных” как о естественном прогрессе природы и общества. Во второй половине XIX в. прогрессистский оптимизм несколько охладевает – сказывается разочарование в результатах буржуазных революций, социальные проблемы индустриализации. Тем не менее, до около 1860-х годов сомнения в идее прогресса были редки: господствовало убеждение, что человечество движется по восходящей линии . Даже революционный мыслитель Карл Маркс разделял веру в историческую закономерность развития, хотя внёс коррективы: он подчёркивал неравномерность и конфликтность прогресса (через борьбу классов) и признавал, что разные общества могут идти разными путями (многолинейность истории) . Но конечная цель у Маркса тоже была прогрессивной – коммунистическое бесклассовое общество как логический итог развития производительных сил.
К концу XIX века происходят важные сдвиги: идея бесконечного прогресса подвергается первым серьёзным атакам. Фридрих Ницше (1880-е) саркастически отнёсся к «религии прогресса», заявив, что она – лишь новая утопия. Он утверждал, что никакого объективного поступательного возвышения нет: человечество либо топчется на месте, повторяя одни и те же этапы, либо деградирует . Особый пафос Ницше направил против христианской морали, которая, по его мнению, препятствует естественному отбору и развитию сильных личностей – тем самым прогресс, основанный на «рабской морали», оборачивается регрессом. Под влиянием дарвинизма и песимизма Шопенгауэра возникает образ мира как арены бессмысленной борьбы, не ведущей к улучшению. Одновременно в научной среде появляются первые предостережения: английский экономист Томас Мальтус ещё в 1798 г. предсказал, что рост населения обгонит рост производства продовольствия, что грозит человечеству катастрофой . Мальтус тем самым стоял у истоков страха перед прогрессом, показав, что у технического и социального развития могут быть пределы . Ещё один удар по наивной вере в автоматическое улучшение нанёс Чарльз Дарвин: хотя эволюцию стали истолковывать как прогресс, выяснилось, что она не имеет цели и не гарантирует “улучшения” (она лишь приспособляет виды к среде, а моральные или социальные ценности к ней неприменимы). К рубежу XX века оптимизм Просвещения заметно померк – впереди был век мировых войн и тоталитарных экспериментов, окончательно поставивших под вопрос линию неуклонного прогресса.
3. Современные критики концепции прогресса
Постмодернизм: конец «больших нарративов»
После ужасов первой половины XX века (войны, геноцид, тоталитаризм) многие мыслители заговорили о кризисе самой идеи прогресса. Философы постмодернистского направления деконструировали просветительский “миф” о поступательном развитии. Жан-Франсуа Лиотар в труде «Состояние постмодерна» (1979) объявил о «недоверии к большим нарративам» – то есть к универсальным идеям вроде Истории с большой буквы, ведущей человечество к освобождению . Нарратив прогресса, по Лиотару, – это всего лишь одна из метанараций модерна, утратившая убедительность. Постмодернисты вообще известны неприятием понятия прогресса в истории: они утверждают, что развитие знания и общества не является однозначно прогрессивным . Мишель Фуко предложил вместо линейной истории «генеалогию» – исследование дискретных исторических эпизодов и разрывов в эпистеме. В интервью 1977 г. Фуко пояснял, что его позиция – это скепсис в отношении самого себя и своего настоящего, не позволяющий предполагать, будто нынешнее состояние лучше прошлого лишь по факту хронологии . Он призывал отказаться от поисков «телеологической прогрессии» в истории знаний . Тем самым разоблачалась просветительская вера, что история науки – это накопление истины: вместо этого Фуко показывал, как меняются сами режимы истины и власти. Еще раньше, в «Диалектике Просвещения» (1947), представители Франкфуртской школы Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно подвергли суровой критике понятие прогресса через разум: по их мнению, разум Просвещения обернулся новым мифом и средством угнетения – вместо освобождения человечество получило лагеря и бомбы. Они указали на парадокс: технический и научный прогресс не гарантирует морального роста, а может служить силам зла (напр. бюрократическая рациональность сделала возможным Холокост). Вслед за ними социолог Зигмунд Бауман говорил о “модерне как холокосте”, намекая, что величайшее преступление стало продуктом именно модернистского стремления переделать общество “к лучшему”. Жан Бодрийяр довёл сомнения до радикализма, утверждая, что в эпоху всеобщей симуляции сама реальность истории исчезает. В работах Бодрийяра (например, «Симулякры и симуляция», 1981) проводится мысль, что современная цивилизация, поглощённая моделями и образами, утрачивает вектор развития – прогресс становится иллюзорным, растворяясь в круговороте симулякров. Таким образом, постмодернистская философия в разных формах отрицает старый идеал непрерывного восхождения человечества: вместо него акцентируются множественность, фрагментарность и неоднозначность исторического процесса.
Технологический прогресс: благо или угроза?
Научно-технический прогресс, долго воспринимавшийся как двигатель всеобщего улучшения, во второй половине XX – начале XXI вв. стал рассматриваться двояко: с одной стороны, он дал колоссальный рост производительности, знаний, уровня комфорта и медицины; с другой – породил новые глобальные угрозы. Уже с середины XX в. человечество осознало, что изобретение ядерного оружия поставило цивилизацию на грань самоуничтожения. В 1945 г., сразу после атомных бомбардировок, философ Карл Ясперс ввёл понятие «осевое время»: он утверждал, что с созданием ядерной бомбы история качественно изменилась, ибо впервые конец света стал делом рук человека, а не рока или божества. Так технология превратилась в риск планетарного масштаба. Вслед за ядерной угрозой появились и другие: опасность биотехнологических экспериментов, возможность утечки смертельных вирусов, перспектива неконтролируемого искусственного интеллекта. Если в оптимистическом XX в. фантасты мечтали о благих дарах техники (межзвёздные полёты, роботы-слуги и пр.), то популярная культура XXI в. полна технофобий: от восстания машин («Терминатор») до деградации человечества под властью виртуальной реальности («Матрица»). Многие мыслители заговорили о «пределах роста» и о ловушках прогресса. Например, концепция «прогрессорских ловушек» (Рональд Райт) описывает, как технологические новшества, решая одни проблемы, создают новые, ещё более опасные. Так, сельскохозяйственная революция увеличила население, но привела к войнам за ресурсы; промышленная революция улучшила благосостояние, но спровоцировала загрязнение и изменение климата. Современные философы техники (Мартин Хайдеггер, Жак Эллюль, Ханс Йонас) предупреждали, что техника обладает собственной логикой развития, не подчинённой человеческим ценностям . Техника растёт экспоненциально, тогда как мораль – эволюционирует медленно; возникает разрыв, чреватый обезличиванием человека. Гуманитарии заговорили о дегуманизации в технократическом обществе : машина и алгоритм всё больше определяют образ жизни, вытесняя живое человеческое общение. Возникает вопрос: является ли всякий прогресс – прогрессом для человека? Если новые технологии подрывают свободу, приватность, психическое здоровье (как, например, тотальная цифровая слежка или зависимость от гаджетов), можно ли называть их прогрессивными? Таким образом, технический прогресс перестал автоматически ассоциироваться с благом – его оценивают через призму этических последствий. Многие утверждают, что человечеству нужна не столько остановка прогресса, сколько его контроль и переосмысление: разработка глобальной этики ответственности (по Йонасу) и международных механизмов, гарантирующих, что открытия будут служить гуманным целям, а не разрушению.
Экологические вызовы и переосмысление прогресса
К концу XX века стало очевидно, что экспоненциальный промышленный рост привёл к экологическому кризису. Стремление человека покорять природу обернулось угрозой исчерпания ресурсов, утраты биоразнообразия и изменения климата. Ещё в 1972 г. Римский клуб опубликовал доклад «Пределы роста», где с помощью компьютерных моделей показал: если сохранятся прежние темпы экономического и демографического роста, то в XXI веке мир столкнётся с катастрофическим истощением ресурсов и загрязнением среды. Эти прогнозы заставили задуматься о том, что идея бесконечного прогресса – особенно в виде бесконечного экономического роста – физически несостоятельна на планете с конечными ресурсами. Заговорили о необходимости устойчивого развития (sustainable development), то есть такого прогресса, который не разрушает природных основ жизни. В философском и общественном дискурсе появились новые концепции: «нулевой рост», «построст» (post-growth), переход от количественного роста к улучшению качества жизни. Многие экологи и мыслители (Сергей Подолинский ещё в XIX в., в XX в. Николас Георгеску-Рёген, в наши дни – Наоми Кляйн и др.) критиковали культ потребления и бесконечного производства. Они предлагали измерять прогресс не объемом потребления, а более тонкими критериями – счастьем, здоровьем экосистем, устойчивостью сообществ. Действительно, во второй половине XX в. скепсис в отношении идеи автоматического прогресса стал массовым: историки культуры говорят о «смене парадигмы» – от веры в прогресс к постистории, где будущее видится неопределённым или тревожным. С 1990-х годов некоторые мыслители (Фрэнсис Фукуяма и др.) и вовсе заговорили о «конце истории» – мол, с глобальной победой либеральной демократии человечество достигло финальной формы развития и впереди не столько прогресс, сколько управление устойчивостью. Хотя эта точка зрения спорна, она отражает разочарование в идеалах XIX века. Согласно опросам, многие современные люди не уверены, что жизнь их детей будет лучше, чем их собственная – столь сильна утрата веры в автоматический прогресс. Вместо этого внимание сместилось к локальным улучшениям и качеству жизни здесь и сейчас, а не к утопическим проектам перестройки мира.
Утопии и антиутопии: пределы и опасности прогресса
Литература и социальная мысль последних веков ярко отражают изменчивое отношение к прогрессу. В утопиях Нового времени – от классической «Утопии» Томаса Мора (1516) до утопического социализма XIX века – выражалась надежда на идеальное общество в будущем, достижимое разумным устройством. Например, utopian социалисты (Сен-Симон, Фурье) рисовали картины гармоничного индустриального общества, где научно-технический прогресс приносит изобилие и справедливость. Однако уже в XIX веке появляются предупреждения: Мальтус, как отмечалось, критиковал оптимизм Кондорсе , а Достоевский в «Записках из подполья» (1864) саркастически высмеял веру утопистов в «хрустальный дворец» рационального счастья. В XX веке жанр антиутопии расцвёл, став художественной формой критики прогресса. Евгений Замятин в романе «Мы» (1920) показал технократическое будущее: человечество достигло невероятного научного прогресса, но ценой тоталитарного подавления личности и чувств. Герои Замятина живут в стеклянном городе-машине, где жизнь полностью регламентирована во имя всеобщего благоденствия – и бунтуют именно во имя права на ошибку и свободу. Олдос Хаксли в «О дивный новый мир» (1932) создал образ общества потребления и биотехнологий, где люди выведены в инкубаторах и «запрограммированы» на довольство своим положением. Хаксли тем самым сатирически атаковал прогресс в целом и преклонение перед всемогущей наукой , показывая обезличенное «счастье», лишённое духовности и свободы. Джордж Оруэлл в антиутопии «1984» (1949) изобразил крайнюю форму тоталитаризма, сопровождаемого технологией слежки: его главный герой осознаёт ужас не только тирании, но и уничтожения самой истины (переписывание истории, язык новояза) – что тоже порождение извращённого «прогресса» в управлении массами. Анализируя эти произведения, исследователи отмечают глубочайшее разочарование их авторов в просвещенческих идеалах . Хаксли и Оруэлл, пережив ужасы войны и диктатур, сомневались, что прогресс ведёт к счастью: напротив, у них будущее мрачнее настоящего. Антиутопии в последующие десятилетия только укрепились как предупреждение: от Брэдбери («451° по Фаренгейту», 1953) до фильмов вроде «Метрополис» или «Бразилия» – все они обнажают проблемы, порождённые неконтролируемым стремлением улучшить общество или природу человека. Утопия оборачивается антиутопией, если забыть о моральных ограничениях прогресса – таков урок этого жанра.
Характерно, что в самом конце ХХ – начале XXI вв., на фоне научных триумфов (расшифровка генома, интернет, космические исследования), происходит и своего рода реабилитация идеи прогресса в отдельных кругах. Появляются неоуточные проекты – от движения эффективного альтруизма до трансгуманизма – предлагающие сознательно направлять прогресс на преодоление болезней, старения, установление глобального благополучия. Эти проекты вобрали уроки прошлых критиков: например, трансгуманисты признают риски ИИ и пытаются их минимизировать, а утописты нового типа говорят не о мгновенном рае на земле, а о постепенных улучшениях с опорой на науку и этику. Тем не менее, главный вывод современной мысли: прогресс неоднороден и не автоматичен. Он возможен, но не гарантирован; он многомерен (технический, социальный, моральный – могут идти вразнобой); он зависит от выбора людей и подчинён ценностям. Концепция прогресса из веры превратилась в проблему для размышления. Как писал русский философ Семён Франк в 1930-е, вера в постоянное совершенствование человечества, которая вдохновляла прошлые эпохи, оказалась наивной – события ХХ века не позволяют говорить о движении только “вперёд к свету”, часто речь идёт просто о сохранении человеческого облика . Сегодня, переживая сложные цивилизационные кризисы, человечество переосмысливает прогресс: от прежнего оптимизма осталась, пожалуй, настойчивая надежда – но соединённая с трезвым пониманием рисков и с ответственностью за будущие последствия каждого “шагa вперёд”.
Источники:
1. Эпштейн М. Первопонятия. Ключи к культурному коду. – М.: КоЛибри, 2022 .
2. Ален де Бенуа. Краткая история идеи прогресса (пер. с фр. – Kratkaya istoriya idei progressa).
3. Родичева И. С., Суханова Н. П. Генезис идеи общественного прогресса в историко-философской мысли // Проблемы современного образования, 2020 .
4. Библия. Ветхий и Новый Завет (кн. Бытия, Откровение Иоанна Богослова) – линейное понимание истории, эсхатология.
5. Блаж. Августин. О граде Божьем – обоснование поступательного развития «града земного» к божественной цели .
6. Joachim of Fiore (Иоахим Флорский). Учение о трёх эпохах – раннехристианская утопия истории .
7. Condorcet J.-A. Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1794 – утопия прогресса разума (очерк прогресса человеческого духа).
8. Lyotard J.-F. La Condition postmoderne, 1979 – постмодернистская критика метанарратива прогресса .
9. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения, 1947 – о самоуничтожении просвещения и кризисе идеи прогресса.
10. Замятин Е. Мы, 1920; Хаксли О. Brave New World, 1932; Оруэлл Дж. 1984, 1949 – антиутопии, вскрывающие опасности технократического “рая” .