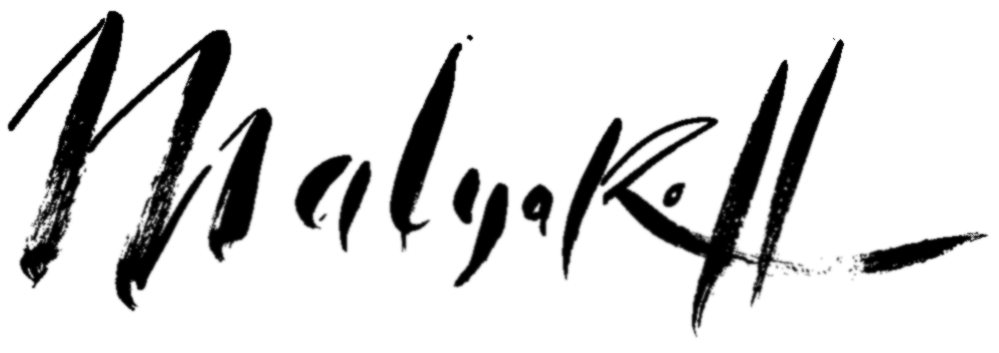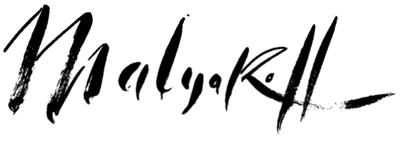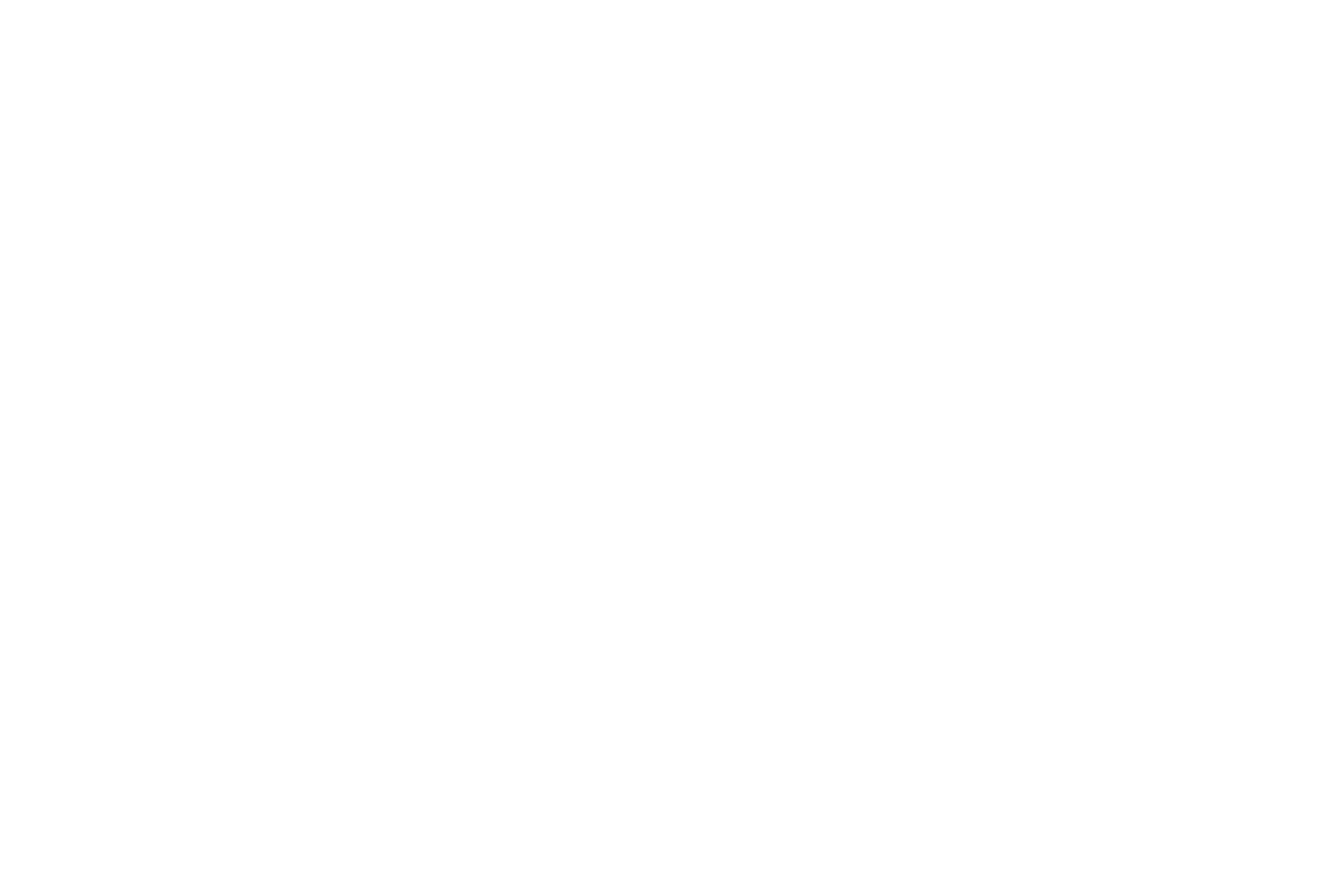
Каков ты — такова и вечность: о тайне загробной жизни в истории и современных взглядах
Что ждет человека по ту сторону смерти? Этот вопрос волнует человечество с древнейших времен. В разных эпохах и культурах возникали разноречивые представления – от мрачного подземного царства Аида до сияющих небесных обителей. Но среди этих представлений особое место занимает евангельский призыв: «Царствие Божие внутри вас есть» – слова Христа, намекающие, что искомое Царство не просто внешний посмертный мир, а нечто, находящееся в глубинах самого человека. Довольно интересно проследить, как развивались идеи о загробном мире и Царстве Божием – от античных мифов до современной теологии – и понять, что значит обретение Царствия Божия внутри нас. Это попытка путешествия сквозь века философской и богословской мысли, с опорой на авторитетные исследования и тексты мыслителей.
Историческая эволюция представлений о посмертии
Древние цивилизации. В самых ранних мифологиях загробный мир чаще всего представлялся единым местом для всех умерших, вне зависимости от их нравственных качеств. Например, у древних греков все души отправлялись в царство Аида – бледную тень земной жизни. В гомеровских поэмах мы видим, что в мрачном Хадесе обитают и герои, и злодеи, все разделяют одну судьбу бесплотного существования (Did Ancient Greeks Invent Heaven and Hell? - The Bart Ehrman Blog) (The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Лишь немногие, совершившие нечто из ряда вон выходящее – великие праведники или, напротив, богохульники – ожидали особые участи: блаженные Елисейские поля для избранных любимцев богов или вечные муки в Тартаре для преступников против богов. Однако идея всеобщего посмертного воздаяния (награды или наказания каждого человека) была изначально чужда античному сознанию: ранние греки не связывали посмертие с моральной оценкой жизни (The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Подобное мы видим и в других культурах Древнего Востока – в Месопотамии, у древних евреев: загробный мир (например, Шеол в ветхозаветной традиции) воспринимался как темное небытие, «страна тени смертной», куда сходят все, и праведник, и грешник, – без разделения на рай и ад.
Древние цивилизации. В самых ранних мифологиях загробный мир чаще всего представлялся единым местом для всех умерших, вне зависимости от их нравственных качеств. Например, у древних греков все души отправлялись в царство Аида – бледную тень земной жизни. В гомеровских поэмах мы видим, что в мрачном Хадесе обитают и герои, и злодеи, все разделяют одну судьбу бесплотного существования (Did Ancient Greeks Invent Heaven and Hell? - The Bart Ehrman Blog) (The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Лишь немногие, совершившие нечто из ряда вон выходящее – великие праведники или, напротив, богохульники – ожидали особые участи: блаженные Елисейские поля для избранных любимцев богов или вечные муки в Тартаре для преступников против богов. Однако идея всеобщего посмертного воздаяния (награды или наказания каждого человека) была изначально чужда античному сознанию: ранние греки не связывали посмертие с моральной оценкой жизни (The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Подобное мы видим и в других культурах Древнего Востока – в Месопотамии, у древних евреев: загробный мир (например, Шеол в ветхозаветной традиции) воспринимался как темное небытие, «страна тени смертной», куда сходят все, и праведник, и грешник, – без разделения на рай и ад.
Поворот к этическому загробному воздаянию
Со временем представления усложняются. Философские и религиозные новации приводят к зарождению идеи суда над душами и разделения их участи. Уже в поздней греческой мысли (в диалогах Платона, таких как миф об Эре в «Государстве») появляются образы посмертного суда: души вознаграждаются в небесных сферах или караются в недрах земли в соответствии с земной жизнью. Эти идеи, ранее не свойственные архаической эпохе, отражают сдвиг к этическому пониманию посмертия ( см. The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Существенное влияние здесь оказали мистериальные культы и восточные верования. Так, религия Зороастра (Древняя Персия) учила о противостоянии сил добра и зла и о конечном спасении праведников и наказании злых в День Суда. Исследователи отмечают, что во время Вавилонского плена евреи познакомились с иранскими идеями: ожидание всеобщего воскресения мертвых и Страшного суда могло проникнуть в иудейскую эсхатологию под влиянием зороастризма (The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 2 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). В поздневетхозаветных книгах (например, пророка Даниила 12:2) уже явно звучит надежда на воскресение «жизнь вечную» для одних и «поношение вечное» для других – то, чего не было в более ранних текстах.
Со временем представления усложняются. Философские и религиозные новации приводят к зарождению идеи суда над душами и разделения их участи. Уже в поздней греческой мысли (в диалогах Платона, таких как миф об Эре в «Государстве») появляются образы посмертного суда: души вознаграждаются в небесных сферах или караются в недрах земли в соответствии с земной жизнью. Эти идеи, ранее не свойственные архаической эпохе, отражают сдвиг к этическому пониманию посмертия ( см. The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Существенное влияние здесь оказали мистериальные культы и восточные верования. Так, религия Зороастра (Древняя Персия) учила о противостоянии сил добра и зла и о конечном спасении праведников и наказании злых в День Суда. Исследователи отмечают, что во время Вавилонского плена евреи познакомились с иранскими идеями: ожидание всеобщего воскресения мертвых и Страшного суда могло проникнуть в иудейскую эсхатологию под влиянием зороастризма (The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 2 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). В поздневетхозаветных книгах (например, пророка Даниила 12:2) уже явно звучит надежда на воскресение «жизнь вечную» для одних и «поношение вечное» для других – то, чего не было в более ранних текстах.
Раннее христианство
На рубеже эр формируется новая перспектива. Христианство унаследовало от иудаизма веру в воскресение и Страшный суд, но переосмыслило их в свете личности Христа. В Новом Завете посмертная судьба связана прежде всего с участием человека в воскресении Христовом. Первые христиане ожидали скорого конца века с пришествием Мессии и установлением Царства Божия. При этом традиционных образов рая и ада в деталях, подобных позднейшим, у Иисуса и апостолов почти нет. Христос говорит о «жизни вечной» для праведников и «геенне огненной» для отверженных, но образ «геенны» – это метафора, восходящая к долине Хинном, месту уничтожения отходов в Иерусалиме, и в устах Иисуса она служила нравственным предупреждением, а не буквальным описанием географии ада (см. What Jesus Really Said About Heaven and Hell | TIME, а также What did Jesus think heaven and hell were? : r/AcademicBiblical).
Барт Эрман, исследователь Нового Завета, прямо отмечает: привычное представление, будто после смерти души сразу воздаются раем или адом, не берёт начала ни в ветхозаветной религии, ни непосредственно в учении Иисуса (у него в блоге: Did Ancient Greeks Invent Heaven and Hell? - The Bart Ehrman Blog). Оно складывается позднее, под влиянием греко-римской культуры. В первые века христианства акцент был на грядущем Воскресении и Судном дне – то есть на конечном торжестве Бога в истории, а не на подробностях индивидуального путешествия души в час смерти. Тем не менее, в народном благочестии постепенно укореняется картина двоичной загробной участи – блаженство в раю для спасенных и муки ада для грешников – хотя её ранние очертания более расплывчаты, чем в зрелой средневековой доктрине.
На рубеже эр формируется новая перспектива. Христианство унаследовало от иудаизма веру в воскресение и Страшный суд, но переосмыслило их в свете личности Христа. В Новом Завете посмертная судьба связана прежде всего с участием человека в воскресении Христовом. Первые христиане ожидали скорого конца века с пришествием Мессии и установлением Царства Божия. При этом традиционных образов рая и ада в деталях, подобных позднейшим, у Иисуса и апостолов почти нет. Христос говорит о «жизни вечной» для праведников и «геенне огненной» для отверженных, но образ «геенны» – это метафора, восходящая к долине Хинном, месту уничтожения отходов в Иерусалиме, и в устах Иисуса она служила нравственным предупреждением, а не буквальным описанием географии ада (см. What Jesus Really Said About Heaven and Hell | TIME, а также What did Jesus think heaven and hell were? : r/AcademicBiblical).
Барт Эрман, исследователь Нового Завета, прямо отмечает: привычное представление, будто после смерти души сразу воздаются раем или адом, не берёт начала ни в ветхозаветной религии, ни непосредственно в учении Иисуса (у него в блоге: Did Ancient Greeks Invent Heaven and Hell? - The Bart Ehrman Blog). Оно складывается позднее, под влиянием греко-римской культуры. В первые века христианства акцент был на грядущем Воскресении и Судном дне – то есть на конечном торжестве Бога в истории, а не на подробностях индивидуального путешествия души в час смерти. Тем не менее, в народном благочестии постепенно укореняется картина двоичной загробной участи – блаженство в раю для спасенных и муки ада для грешников – хотя её ранние очертания более расплывчаты, чем в зрелой средневековой доктрине.
Средневековый христианский взгляд
К средним векам христианская эсхатология приобретает сложную «географию». Западная (латинская) традиция вырабатывает стройные доктрины о небесном рае, аду и чистилище, с описанием их как вполне конкретных мест. Теологи-схоласты рассуждают о природе адских мук и небесной славы с почти юридической скрупулезностью: грехи влекут заслуженное наказание, добродетели – награду, а души проходят через Particular Judgment (частный суд сразу после смерти) и затем через Страшный Суд в конце времен. К XII–XIII векам утверждается вера в Чистилище – временное состояние очищения для тех, кто умер в покаянии, но не вполне свят. Эта идея заполняет логический пробел между абсолютной святостью рая и вечным проклятием ада, однако чистилище стало и социальным фактором – через институт индульгенций, облегчавших участь душ.
Кульминацией средневекового воображения о посмертии можно назвать «Божественную комедию» Данте Алигьери (начало XIV века), где в литературной форме собран и систематизирован весь предшествующий опыт представлений о загробном мире. Данте рисует ад в виде девяти кругов с изощренными наказаниями, гору Чистилища с мучениями очищения и небеса различных планет и сфер – эта поэма опирается на богословские идеи своего времени и, в свою очередь, резко повлияла на массовое сознание Запада (Our current concept of Hell as a blazing inferno is based on Dante's ...).
Восточное христианство (православие Византии и славянских стран) развивалось несколько иначе. Византийские отцы Церкви меньше увлекались детализированным описанием ада или рая. Они больше говорили о обожении (теосисе) – приобщении к Божественной жизни – как цели человека, и менее акцентировали юридические схемы наказаний. Тем не менее и на Востоке присутствует образ Страшного суда, а в народных преданиях возникают свои видения мытарств (испытаний души после смерти). В целом же, к концу средневековья и на христианском Востоке, и на Западе укрепляется двоичная модель посмертия: душа либо соединяется с Богом в свете райском, либо удаляется во тьму и огнь адский. Различия будут явно проявляться уже позже – в нюансах интерпретаций и духовных акцентах, о чем далее.
К средним векам христианская эсхатология приобретает сложную «географию». Западная (латинская) традиция вырабатывает стройные доктрины о небесном рае, аду и чистилище, с описанием их как вполне конкретных мест. Теологи-схоласты рассуждают о природе адских мук и небесной славы с почти юридической скрупулезностью: грехи влекут заслуженное наказание, добродетели – награду, а души проходят через Particular Judgment (частный суд сразу после смерти) и затем через Страшный Суд в конце времен. К XII–XIII векам утверждается вера в Чистилище – временное состояние очищения для тех, кто умер в покаянии, но не вполне свят. Эта идея заполняет логический пробел между абсолютной святостью рая и вечным проклятием ада, однако чистилище стало и социальным фактором – через институт индульгенций, облегчавших участь душ.
Кульминацией средневекового воображения о посмертии можно назвать «Божественную комедию» Данте Алигьери (начало XIV века), где в литературной форме собран и систематизирован весь предшествующий опыт представлений о загробном мире. Данте рисует ад в виде девяти кругов с изощренными наказаниями, гору Чистилища с мучениями очищения и небеса различных планет и сфер – эта поэма опирается на богословские идеи своего времени и, в свою очередь, резко повлияла на массовое сознание Запада (Our current concept of Hell as a blazing inferno is based on Dante's ...).
Восточное христианство (православие Византии и славянских стран) развивалось несколько иначе. Византийские отцы Церкви меньше увлекались детализированным описанием ада или рая. Они больше говорили о обожении (теосисе) – приобщении к Божественной жизни – как цели человека, и менее акцентировали юридические схемы наказаний. Тем не менее и на Востоке присутствует образ Страшного суда, а в народных преданиях возникают свои видения мытарств (испытаний души после смерти). В целом же, к концу средневековья и на христианском Востоке, и на Западе укрепляется двоичная модель посмертия: душа либо соединяется с Богом в свете райском, либо удаляется во тьму и огнь адский. Различия будут явно проявляться уже позже – в нюансах интерпретаций и духовных акцентах, о чем далее.
Современное восприятие
Новое время и особенно эпоха Просвещения принесли скепсис к средневековым образам ада и рая. В философии Нового времени (XVII–XVIII вв.) загробная тема отходит на второй план, уступая место вопросам морали и разума при земной жизни. В XIX–XX веках традиционные представления о аде и рае пересматриваются: кто-то (в либеральном богословии) вообще отвергает идею вечных адских мучений как несовместимую с Божьей любовью; кто-то переосмысливает их символически, психологически. Тем не менее вера в жизнь после смерти сохраняется: опросы показывают, что и в высокоразвитых странах большинство людей, так или иначе, верят в существование «рая» и «ада» (см. тут: The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Просто для современного человека эти слова всё чаще значат не географические локации в космосе, а состояния души – близость или отдалённость от Бога. Даже светская культура перенимает образы рая и ада как метафоры (например, выражения «рай на земле» или «ад в душе»). Таким образом, эволюция представлений о посмертии прошла путь от примитивного единого подземного царства для всех – к детализированным картинам воздаяния в зависимости от жизни – и дальше к более внутреннему, экзистенциальному пониманию этих состояний.
Новое время и особенно эпоха Просвещения принесли скепсис к средневековым образам ада и рая. В философии Нового времени (XVII–XVIII вв.) загробная тема отходит на второй план, уступая место вопросам морали и разума при земной жизни. В XIX–XX веках традиционные представления о аде и рае пересматриваются: кто-то (в либеральном богословии) вообще отвергает идею вечных адских мучений как несовместимую с Божьей любовью; кто-то переосмысливает их символически, психологически. Тем не менее вера в жизнь после смерти сохраняется: опросы показывают, что и в высокоразвитых странах большинство людей, так или иначе, верят в существование «рая» и «ада» (см. тут: The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Просто для современного человека эти слова всё чаще значат не географические локации в космосе, а состояния души – близость или отдалённость от Бога. Даже светская культура перенимает образы рая и ада как метафоры (например, выражения «рай на земле» или «ад в душе»). Таким образом, эволюция представлений о посмертии прошла путь от примитивного единого подземного царства для всех – к детализированным картинам воздаяния в зависимости от жизни – и дальше к более внутреннему, экзистенциальному пониманию этих состояний.
Царствие Божие в учении Христа
Проповедь о Царстве
Центральная тема благовестия Иисуса Христа – наступление Царствия Божия. В Евангелиях Христос начинает свое служение словами: «приблизилось Царство Небесное; покайтесь» (Мк 1:15 и параллели). Он учит учеников молиться: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Явно, что для самого Иисуса Царство Божие – не просто посмертный рай, а динамичное Божье царствование, которое приходит в мир уже сейчас, преображая реальность. Многочисленные притчи – о зерне горчичном, о закваске, о сокровище, о винограднике – раскрывают Царство как духовную реальность, растущую среди людей. При этом Христос уклоняется от прямых «географических» описаний рая или ада. Когда фарисеи спросили, когда придет это Царство, Иисус ответил загадочно: «Царствие Божие не придет заметным образом... ибо вот, Царствие Божие внутри вас (или посреди вас)» (Лк 17:20-21). В оригинале употреблено греч. entos – «внутри» (См. ТУТ), однако некоторые переводят как «среди вас».
Так или иначе, смысл ясен: не стоит искать Царство где-то там, оно зарождается здесь, в сердцах и в общине вокруг Христа. Это кардинально отличалось от представлений о политическом мессианском царстве, которого ждали многие иудеи.
Не от мира сего, но в этом мире
Христос прямо заявил Пилату: «Царство Мое не от мира сего» (Ин 18:36), имея в виду, что Его Царство – не земная держава. Но это не значит, что оно существовало лишь «где-то на небесах». Напротив, всюду в Евангелиях Царство Божие присутствует там, где действует сам Иисус – когда прощаются грехи, исцеляются больные, принимаются отверженные. «Если Я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царство Божие» (Мф 12:28) – утверждает Он. То есть Царство проявляется как Божья сила и милость среди людей. Таким образом, для Христа Царство – это, в первую очередь, Божье правление, устанавливающееся в душах и в мире, а не просто место награды после смерти. Современный библеист Н. Т. Райт замечает, что Христос учил молиться о пришествии Царства «на земле, как на небе», и вся суть христианской надежды в том, что не человек уходит на небо, но небо приходит на землю – обновляя творение (см. On Earth As In Heaven - NTWrightPage). Первые христиане верили, что со Христовым Воскресением Божье Царство уже началось тайно действовать в мире, хотя его полнота раскроется лишь в конце времен.
Контраст с позднейшими средневековыми представлениями
Учение Иисуса о Царстве Божием существенно отличается от средневековой религиозной картины мира, где акцент сместился на загробные воздаяния – рай и ад как некие окончательные места пребывания души после суда. В Евангелиях же царство небесное – это сокровище, которое человек может обрести уже при жизни, продав все остальное (Мф 13:44-46), это пир, куда приглашены грешники, это новая праведность сердца (Нагорная проповедь фактически описывает качества людей Царства Божия). Иначе говоря, Христос говорит больше о преобразовании человека и общества здесь и сейчас, нежели о чертогах рая там и тогда. Конечно, Он не отрицал и будущее небесное блаженство – обещая разбойнику «быть в раю» (Лк 23:43) и говоря о «домах Отца Небесного» (Ин 14:2). Но подробных описаний потустороннего мира Христос не дал – этого не было центральным в Его вести.
В поздней же западно-христианской традиции образ Царства Божия нередко отождествлялся с небесным раем как наградой праведникам после Страшного суда. Одновременно возник юридический подход: Царство мыслилось как патримония Христа-Царя, куда допускаются «в законном порядке» лишь искупленные, а грешники законно осуждаются в ад. Такая юридизация особенно усилилась в латинском богословии: идея удовлетворения Божественной справедливости (Ансельм Кентерберийский) предполагала, что без удовлетворения за грех душа не может войти в рай – отсюда учение о чистилище, индульгенции и т.д. Сам образ Бога сместился к образу Праведного Судьи, выносящего приговоры. Эта традиция, выраженная ярко у Данте, рисовала Царство Божие почти как строго организованное космическое государство с законами и казнями.
Иисус Христос же, напротив, провозглашал милость для кающихся и радостную весть для нищих духом. В притче о блудном сыне мы видим, что возвращение в отчий дом – вот подлинная суть спасения, а не юридическое оправдание. Таким образом, евангельское Царство внутри нас – это любовь Бога, принимаемая душой, – противостоит схеме «рай как вознаграждение».
Исследователи отмечают, что раннехристианские идеи о посмертии были гораздо менее детализированы, чем сложная картина, возникшая спустя столетия (Did Ancient Greeks Invent Heaven and Hell? - The Bart Ehrman Blog). Фактически, популярные представления о рае и аде, которые многие принимают за изначально христианские, во многом сформировались под влиянием античных (греческих, персидских) представлений уже после Нового Завета. Барт Эрман прямо пишет: идея, будто сразу по смерти человек возносится в рай или низвергается в ад, не восходит к самому Иисусу, но появилась позже – например, в апокрифах и писаниях вроде видений апостола Петра, Павла, и в языческой философии (Did Ancient Greeks Invent Heaven and Hell? - The Bart Ehrman Blog).
«Царство внутри» в словах Христа
Наиболее непосредственное указание Иисуса на внутреннюю природу Царства – уже упомянутая фраза: «Царствие Божие внутри вас» (Лк 17:21). Некоторые полагают, что точнее переводить «посреди вас» (т.е. между вами, воплотившись во Мне). Однако виднейшие отцы Церкви понимали эти слова и в мистическом плане – как указание на сердце человека как храм Божьего присутствия. В апокрифическом Евангелии Фомы (из сочинений раннехристианской мистической традиции) есть созвучная фраза: «Царство внутри вас и вне вас». И хотя этот текст не канонический, он отражает раннее христианское убеждение: искать Бога надо не во внешних знамениях, а в сокровенном. Таким образом, учение Христа о Царстве закладывает фундамент для будущих размышлений о внутреннем измерении рая и ада.
Проповедь о Царстве
Центральная тема благовестия Иисуса Христа – наступление Царствия Божия. В Евангелиях Христос начинает свое служение словами: «приблизилось Царство Небесное; покайтесь» (Мк 1:15 и параллели). Он учит учеников молиться: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Явно, что для самого Иисуса Царство Божие – не просто посмертный рай, а динамичное Божье царствование, которое приходит в мир уже сейчас, преображая реальность. Многочисленные притчи – о зерне горчичном, о закваске, о сокровище, о винограднике – раскрывают Царство как духовную реальность, растущую среди людей. При этом Христос уклоняется от прямых «географических» описаний рая или ада. Когда фарисеи спросили, когда придет это Царство, Иисус ответил загадочно: «Царствие Божие не придет заметным образом... ибо вот, Царствие Божие внутри вас (или посреди вас)» (Лк 17:20-21). В оригинале употреблено греч. entos – «внутри» (См. ТУТ), однако некоторые переводят как «среди вас».
Так или иначе, смысл ясен: не стоит искать Царство где-то там, оно зарождается здесь, в сердцах и в общине вокруг Христа. Это кардинально отличалось от представлений о политическом мессианском царстве, которого ждали многие иудеи.
Не от мира сего, но в этом мире
Христос прямо заявил Пилату: «Царство Мое не от мира сего» (Ин 18:36), имея в виду, что Его Царство – не земная держава. Но это не значит, что оно существовало лишь «где-то на небесах». Напротив, всюду в Евангелиях Царство Божие присутствует там, где действует сам Иисус – когда прощаются грехи, исцеляются больные, принимаются отверженные. «Если Я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царство Божие» (Мф 12:28) – утверждает Он. То есть Царство проявляется как Божья сила и милость среди людей. Таким образом, для Христа Царство – это, в первую очередь, Божье правление, устанавливающееся в душах и в мире, а не просто место награды после смерти. Современный библеист Н. Т. Райт замечает, что Христос учил молиться о пришествии Царства «на земле, как на небе», и вся суть христианской надежды в том, что не человек уходит на небо, но небо приходит на землю – обновляя творение (см. On Earth As In Heaven - NTWrightPage). Первые христиане верили, что со Христовым Воскресением Божье Царство уже началось тайно действовать в мире, хотя его полнота раскроется лишь в конце времен.
Контраст с позднейшими средневековыми представлениями
Учение Иисуса о Царстве Божием существенно отличается от средневековой религиозной картины мира, где акцент сместился на загробные воздаяния – рай и ад как некие окончательные места пребывания души после суда. В Евангелиях же царство небесное – это сокровище, которое человек может обрести уже при жизни, продав все остальное (Мф 13:44-46), это пир, куда приглашены грешники, это новая праведность сердца (Нагорная проповедь фактически описывает качества людей Царства Божия). Иначе говоря, Христос говорит больше о преобразовании человека и общества здесь и сейчас, нежели о чертогах рая там и тогда. Конечно, Он не отрицал и будущее небесное блаженство – обещая разбойнику «быть в раю» (Лк 23:43) и говоря о «домах Отца Небесного» (Ин 14:2). Но подробных описаний потустороннего мира Христос не дал – этого не было центральным в Его вести.
В поздней же западно-христианской традиции образ Царства Божия нередко отождествлялся с небесным раем как наградой праведникам после Страшного суда. Одновременно возник юридический подход: Царство мыслилось как патримония Христа-Царя, куда допускаются «в законном порядке» лишь искупленные, а грешники законно осуждаются в ад. Такая юридизация особенно усилилась в латинском богословии: идея удовлетворения Божественной справедливости (Ансельм Кентерберийский) предполагала, что без удовлетворения за грех душа не может войти в рай – отсюда учение о чистилище, индульгенции и т.д. Сам образ Бога сместился к образу Праведного Судьи, выносящего приговоры. Эта традиция, выраженная ярко у Данте, рисовала Царство Божие почти как строго организованное космическое государство с законами и казнями.
Иисус Христос же, напротив, провозглашал милость для кающихся и радостную весть для нищих духом. В притче о блудном сыне мы видим, что возвращение в отчий дом – вот подлинная суть спасения, а не юридическое оправдание. Таким образом, евангельское Царство внутри нас – это любовь Бога, принимаемая душой, – противостоит схеме «рай как вознаграждение».
Исследователи отмечают, что раннехристианские идеи о посмертии были гораздо менее детализированы, чем сложная картина, возникшая спустя столетия (Did Ancient Greeks Invent Heaven and Hell? - The Bart Ehrman Blog). Фактически, популярные представления о рае и аде, которые многие принимают за изначально христианские, во многом сформировались под влиянием античных (греческих, персидских) представлений уже после Нового Завета. Барт Эрман прямо пишет: идея, будто сразу по смерти человек возносится в рай или низвергается в ад, не восходит к самому Иисусу, но появилась позже – например, в апокрифах и писаниях вроде видений апостола Петра, Павла, и в языческой философии (Did Ancient Greeks Invent Heaven and Hell? - The Bart Ehrman Blog).
«Царство внутри» в словах Христа
Наиболее непосредственное указание Иисуса на внутреннюю природу Царства – уже упомянутая фраза: «Царствие Божие внутри вас» (Лк 17:21). Некоторые полагают, что точнее переводить «посреди вас» (т.е. между вами, воплотившись во Мне). Однако виднейшие отцы Церкви понимали эти слова и в мистическом плане – как указание на сердце человека как храм Божьего присутствия. В апокрифическом Евангелии Фомы (из сочинений раннехристианской мистической традиции) есть созвучная фраза: «Царство внутри вас и вне вас». И хотя этот текст не канонический, он отражает раннее христианское убеждение: искать Бога надо не во внешних знамениях, а в сокровенном. Таким образом, учение Христа о Царстве закладывает фундамент для будущих размышлений о внутреннем измерении рая и ада.
Эволюция представлений о Царствии Божием в христианской традиции
Ранние отцы Церкви
Апостольские мужи и отцы II–III вв. развивали мысли о Царстве Божием применительно к жизни Церкви. Некоторые, как например Ориген, делали акцент на духовно-аллегорическом понимании. Ориген учил, что Христос царствует в душе верующего, и Царство раскрывается по мере очищения души посредством молитвы и познания Бога. В его сочинении «О молитве» он разъясняет просьбу «да приидет Царствие Твое» тем, что молящийся просит Божьего царствования в себе самом, чтобы Бог владычествовал в его душе, как уже владычествует над космосом.
Другой выдающийся отец – святитель Августин (V век) – оказал огромное влияние на западное понимание Царства Божия. В грандиозном трактате «О граде Божьем» Августин противопоставил civitas Dei (город Божий) – сообщество праведников, живущих по любви к Богу – земному «граду человеческому», живущему по гордости. По Августину, Церковь, состоящая из верных, уже сейчас является градом Божиим на земле. Он прямо утверждал: «Церковь уже теперь есть Царство Христово и Царство Небесное» (О граде Божием. Книга 20: Глава 9). Разумеется, оговаривается он, Церковь земная находится в странствовании, в борьбе, и лишь в конце веков ее царство достигнет совершенной полноты. Тем не менее этот тезис знаменателен: Августин отождествил Царство Божие с самой Церковью, начавшейся здесь, хотя и ожидающей небесного завершения.
Восточные отцы (например, святитель Афанасий Великий, братья Каппадокийцы – Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский) также мыслили Царство как прежде всего общение с Богом. Они больше говорили о обожении человека: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» – знаменитый афоризм Афанасия. В этом обожении и состоит вхождение в Царство Божие. Григорий Нисский в трактате «О душе и воскресении» рассуждал, что рай и ад начинаются в состоянии души: добродетельная душа уже при жизни вступает в небесное общение, а порочная носит в себе зачатки геенны. Таким образом, ранние отцы заложили основы как экклезиологического понимания Царства (Церковь = начаток Царства), так и мистико-нравственного (Царство = святость души).
Схоласты и теологи Средневековья
В эпоху схоластики (XII–XIII вв.) тема Царствия Божия отошла несколько на второй план перед систематизацией догматов и сакраментального учения. Тем не менее Фома Аквинский и другие продолжали традицию «двойного понимания» Царства: regnum gratiae (Царство благодати) – то есть Церковь и жизнь веры сейчас, и regnum gloriae (Царство славы) – будущее состояние святых в вечности. Фома прямо пишет, что Царством Божиим называют и сообщество верных, ходящих в вере, и собрание прославленных душ в отчизне небесной. Это соответствует католическому догмату о Церкви воинствующей (на земле) и Церкви торжествующей (на небе). Таким образом, схоластика подтверждает преемственность: Царство началось в Церкви, но завершится лишь после Страшного Суда, когда праведники войдут в радость Господина.
Впрочем, для простого народа схоластические тонкости были не столь важны – в массовом благочестии в центре внимания были именно рай и ад как конкретные посмертные уделы. Царство Божие же как метафизическая категория воспринималось через призму церковной иерархии (Христос – Царь Церкви, Папа – наместник и т.д.). В средневековой литургии нередки были аллюзии на Церковь как на «Царство Христово на земле». Одновременно возник институт коронаций монархов «по благословению Церкви», что сакрализовало политическую власть – светские государи воспринимались как прообразы Христа-Царя. Все это несколько замутняло изначально духовный смысл Царства Божия, подменяя его земными образами царств и государств.
Мистики о внутреннем Царстве
Параллельно официальной схоластике, в христианстве всегда существовала мистическая линия, делавшая упор на непосредственном переживании Бога в душе. Для мистиков всех эпох слова «Царство Божие внутри вас» были живой реальностью. В Средние века немецкий мистик Мейстер Экхарт учил о рождении Бога в глубине души; он говорил, что в самом центре души есть нечто родственное Богу – «маленькая искорка», способная непосредственно соединиться с Ним. По сути, это и есть Царство внутри. Другой мистик, Ангелус Силезиус (XVII в.), писал: «Хотя Христос и родился в Вифлееме, но если Он не родился в тебе, то напрасно». Святая Тереза Авильская (Испания, XVI в.) описывала душу как «внутренний замок» с обителями, где в самой сокровенной, седьмой обители, обитает Бог – образ явного внутреннего Царства. На христианском Востоке исихасты (молчальники) искали непрестанной Иисусовой молитвой Царство Божие внутри, достигая опыта Фаворского Света.
Например, преподобный Симеон Новый Богослов (XI в.) описывал озарение души Божественным Светом и именовал такого просвещенного христианина «еще при жизни пребывающим в Царстве Божием». Итак, мистическая традиция, Востока и Запада, сходится на том, что рай и ад – прежде всего состояния сердца. Слова псалма «Адже есмь ад, Ты – с нами» (Пс 138:8 по славянскому тексту: «Если сойду в ад, и там Ты») понимаются, что даже во тьме адской нет преград Божьей любви, но для того, кто эту любовь отвергает, она и превращается в ад. Таким образом, мистики предвосхищают современное понимание: сотворить рай или ад в себе можно уже на земле, в зависимости от того, отверзается ли сердце навстречу Богу-Любви или замыкается в себя.
Реформация и новые акценты
Протестантская Реформация (XVI в.) тоже внесла вклад в эволюцию взглядов. Лютер, отвергнувший доктрину чистилища и торг индульгенциями, фактически вернул внимание к изначальному духовному смыслу Царства благодати. Он подчеркивал, что Царство Божие приходит к человеку по вере, а не через внешние церемонии. В Малком Катехизисе, объясняя молитву «Отче наш», Лютер писал: «Царство Божие приходит само собою, и без нашей молитвы, но мы молим, чтобы оно пришло к нам». Здесь явно звучит идея личного принятия Божьего царствования в душе. Жан Кальвин развивал образ Христа как Царя, правящего через Слово и Духа в сердцах верующих – Церковь для него была прежде всего общиной избранных, где осуществляется Божье Царство, хотя его полнота – в будущем. Радикальные реформаторы (анабаптисты, квакеры) еще дальше пошли в акценте на внутреннем свете: к примеру, Джордж Фокс, основатель квакеров, провозглашал наличие «того Божьего, что внутри каждого человека». Он отвергал всю внешнюю обрядность, уповая на непосредственное водительство Духа в сердце – а это не что иное, как реализация принципа «Царствия внутри».
В новое и новейшее время христианские мыслители продолжили размышлять о Царстве Божием. В XIX веке Лев Толстой написал трактат прямо под названием «Царство Божие внутри вас» (1894 г.), где радикально переосмыслил христианство как призыв к ненасилию и любви, которые должны воплотить царство Божией правды на земле. Толстой, хотя и отлученный от Церкви, черпал вдохновение именно из слов Христа о том, что царство – не внешняя организация, а внутренний закон правды и совести. Его работа стала манифестом христианского анархизма и пацифизма, оказала влияние даже на Махатму Ганди. Хотя Толстого трудно назвать богословом в академическом смысле, его пример показывает, насколько мощно звучит сама идея внутреннего Царства даже для светских (и тем более – индуистов, каковым был Ганди) реформаторов: перемена общества начинается с перемены сердца каждого.
Таким образом, христианская традиция прошла сложный путь осмысления Царства Божия: от тождествления его с видимой Церковью (отцы Церкви), через юридико-догматические формулы (схоласты), к мистическому углублению в сердце (святые подвижники), и далее – к реформаторскому призыву реализовать принципы Царства в личной и социальной жизни. Эта эволюция подготовила почву для современного взгляда на Царство Божие как имеющее внутреннее измерение, о чем говорят многие богословы нашего времени.
Ранние отцы Церкви
Апостольские мужи и отцы II–III вв. развивали мысли о Царстве Божием применительно к жизни Церкви. Некоторые, как например Ориген, делали акцент на духовно-аллегорическом понимании. Ориген учил, что Христос царствует в душе верующего, и Царство раскрывается по мере очищения души посредством молитвы и познания Бога. В его сочинении «О молитве» он разъясняет просьбу «да приидет Царствие Твое» тем, что молящийся просит Божьего царствования в себе самом, чтобы Бог владычествовал в его душе, как уже владычествует над космосом.
Другой выдающийся отец – святитель Августин (V век) – оказал огромное влияние на западное понимание Царства Божия. В грандиозном трактате «О граде Божьем» Августин противопоставил civitas Dei (город Божий) – сообщество праведников, живущих по любви к Богу – земному «граду человеческому», живущему по гордости. По Августину, Церковь, состоящая из верных, уже сейчас является градом Божиим на земле. Он прямо утверждал: «Церковь уже теперь есть Царство Христово и Царство Небесное» (О граде Божием. Книга 20: Глава 9). Разумеется, оговаривается он, Церковь земная находится в странствовании, в борьбе, и лишь в конце веков ее царство достигнет совершенной полноты. Тем не менее этот тезис знаменателен: Августин отождествил Царство Божие с самой Церковью, начавшейся здесь, хотя и ожидающей небесного завершения.
Восточные отцы (например, святитель Афанасий Великий, братья Каппадокийцы – Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский) также мыслили Царство как прежде всего общение с Богом. Они больше говорили о обожении человека: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» – знаменитый афоризм Афанасия. В этом обожении и состоит вхождение в Царство Божие. Григорий Нисский в трактате «О душе и воскресении» рассуждал, что рай и ад начинаются в состоянии души: добродетельная душа уже при жизни вступает в небесное общение, а порочная носит в себе зачатки геенны. Таким образом, ранние отцы заложили основы как экклезиологического понимания Царства (Церковь = начаток Царства), так и мистико-нравственного (Царство = святость души).
Схоласты и теологи Средневековья
В эпоху схоластики (XII–XIII вв.) тема Царствия Божия отошла несколько на второй план перед систематизацией догматов и сакраментального учения. Тем не менее Фома Аквинский и другие продолжали традицию «двойного понимания» Царства: regnum gratiae (Царство благодати) – то есть Церковь и жизнь веры сейчас, и regnum gloriae (Царство славы) – будущее состояние святых в вечности. Фома прямо пишет, что Царством Божиим называют и сообщество верных, ходящих в вере, и собрание прославленных душ в отчизне небесной. Это соответствует католическому догмату о Церкви воинствующей (на земле) и Церкви торжествующей (на небе). Таким образом, схоластика подтверждает преемственность: Царство началось в Церкви, но завершится лишь после Страшного Суда, когда праведники войдут в радость Господина.
Впрочем, для простого народа схоластические тонкости были не столь важны – в массовом благочестии в центре внимания были именно рай и ад как конкретные посмертные уделы. Царство Божие же как метафизическая категория воспринималось через призму церковной иерархии (Христос – Царь Церкви, Папа – наместник и т.д.). В средневековой литургии нередки были аллюзии на Церковь как на «Царство Христово на земле». Одновременно возник институт коронаций монархов «по благословению Церкви», что сакрализовало политическую власть – светские государи воспринимались как прообразы Христа-Царя. Все это несколько замутняло изначально духовный смысл Царства Божия, подменяя его земными образами царств и государств.
Мистики о внутреннем Царстве
Параллельно официальной схоластике, в христианстве всегда существовала мистическая линия, делавшая упор на непосредственном переживании Бога в душе. Для мистиков всех эпох слова «Царство Божие внутри вас» были живой реальностью. В Средние века немецкий мистик Мейстер Экхарт учил о рождении Бога в глубине души; он говорил, что в самом центре души есть нечто родственное Богу – «маленькая искорка», способная непосредственно соединиться с Ним. По сути, это и есть Царство внутри. Другой мистик, Ангелус Силезиус (XVII в.), писал: «Хотя Христос и родился в Вифлееме, но если Он не родился в тебе, то напрасно». Святая Тереза Авильская (Испания, XVI в.) описывала душу как «внутренний замок» с обителями, где в самой сокровенной, седьмой обители, обитает Бог – образ явного внутреннего Царства. На христианском Востоке исихасты (молчальники) искали непрестанной Иисусовой молитвой Царство Божие внутри, достигая опыта Фаворского Света.
Например, преподобный Симеон Новый Богослов (XI в.) описывал озарение души Божественным Светом и именовал такого просвещенного христианина «еще при жизни пребывающим в Царстве Божием». Итак, мистическая традиция, Востока и Запада, сходится на том, что рай и ад – прежде всего состояния сердца. Слова псалма «Адже есмь ад, Ты – с нами» (Пс 138:8 по славянскому тексту: «Если сойду в ад, и там Ты») понимаются, что даже во тьме адской нет преград Божьей любви, но для того, кто эту любовь отвергает, она и превращается в ад. Таким образом, мистики предвосхищают современное понимание: сотворить рай или ад в себе можно уже на земле, в зависимости от того, отверзается ли сердце навстречу Богу-Любви или замыкается в себя.
Реформация и новые акценты
Протестантская Реформация (XVI в.) тоже внесла вклад в эволюцию взглядов. Лютер, отвергнувший доктрину чистилища и торг индульгенциями, фактически вернул внимание к изначальному духовному смыслу Царства благодати. Он подчеркивал, что Царство Божие приходит к человеку по вере, а не через внешние церемонии. В Малком Катехизисе, объясняя молитву «Отче наш», Лютер писал: «Царство Божие приходит само собою, и без нашей молитвы, но мы молим, чтобы оно пришло к нам». Здесь явно звучит идея личного принятия Божьего царствования в душе. Жан Кальвин развивал образ Христа как Царя, правящего через Слово и Духа в сердцах верующих – Церковь для него была прежде всего общиной избранных, где осуществляется Божье Царство, хотя его полнота – в будущем. Радикальные реформаторы (анабаптисты, квакеры) еще дальше пошли в акценте на внутреннем свете: к примеру, Джордж Фокс, основатель квакеров, провозглашал наличие «того Божьего, что внутри каждого человека». Он отвергал всю внешнюю обрядность, уповая на непосредственное водительство Духа в сердце – а это не что иное, как реализация принципа «Царствия внутри».
В новое и новейшее время христианские мыслители продолжили размышлять о Царстве Божием. В XIX веке Лев Толстой написал трактат прямо под названием «Царство Божие внутри вас» (1894 г.), где радикально переосмыслил христианство как призыв к ненасилию и любви, которые должны воплотить царство Божией правды на земле. Толстой, хотя и отлученный от Церкви, черпал вдохновение именно из слов Христа о том, что царство – не внешняя организация, а внутренний закон правды и совести. Его работа стала манифестом христианского анархизма и пацифизма, оказала влияние даже на Махатму Ганди. Хотя Толстого трудно назвать богословом в академическом смысле, его пример показывает, насколько мощно звучит сама идея внутреннего Царства даже для светских (и тем более – индуистов, каковым был Ганди) реформаторов: перемена общества начинается с перемены сердца каждого.
Таким образом, христианская традиция прошла сложный путь осмысления Царства Божия: от тождествления его с видимой Церковью (отцы Церкви), через юридико-догматические формулы (схоласты), к мистическому углублению в сердце (святые подвижники), и далее – к реформаторскому призыву реализовать принципы Царства в личной и социальной жизни. Эта эволюция подготовила почву для современного взгляда на Царство Божие как имеющее внутреннее измерение, о чем говорят многие богословы нашего времени.
Современные богословы о внутреннем измерении Царствия Божия
В XX веке, на фоне развития психологии, сравнительного религиеведения и библейских исследований, тема «Царство Божие внутри нас» получила новое звучание. Исследователи стали подчёркивать субъективный, экзистенциальный аспект религиозных представлений о рае и аде. Например, выдающийся историк религий Мирча Элиаде отмечал, что для христианства характерна уникальная вера: Царство Божие достижимо в любой момент, а не просто ожидается в будущем. Элиаде указывает, что христиане верят – божественная реальность может раскрыться здесь и сейчас, стоит только человеку обратиться всем сердцем ([PDF] COINCIDENTIA OPPOSITORUM - Institute for Christian Studies).
Это разительно отличает христианскую духовность от архаических культов, где «золотой век» или блаженное бытие помещались либо в начало времен, либо в отдаленный конец. Иными словами, для христианина вечность проникает в настоящее, и граница между миром сим и Царством Божиим проходима изнутри души.
Современные богословы разных конфессий подчеркивают «уже присутствующую, но еще не завершенную» природу Царства (концепция «уже и еще нет», англ. already and not yet). Так, известный англиканский епископ и ученый Н. Т. Райт говорит, что воскресением Христа новое творение и царство Божие уже инициированы в нашем мире, и задача верующих – впустить эту реальность в свою жизнь и общество (On Earth As In Heaven - NTWrightPage).
Католический теолог Карл Ранер рассматривал посмертную жизнь как продолжение личного решения, принятого человеком в земной жизни: либо он открывается навстречу Божьей бесконечности (что и есть рай – «видение Бога»), либо замыкается в эгоизме (что по сути и есть ад). В православном богословии XX века, например, у митр. Каллиста Уэра, звучит мысль, что Церковь – это икона Царства, но лишь тогда, когда каждый верный превращает свое сердце в престол Царя – Христа.
Особенно ярко о внутренней природе рая и ада высказывались сами святые подвижники и богословы Востока. В новейшее время широко известна проповедь митрополита Антония Сурожского «Ад – это неспособность любить», где он говорит, что человек сам созидает в себе ад, когда отрекается от любви. Православный богослов протопресвитер Александр Шмеман писал, что в Евхаристии Царство Божие уже присутствует таинственно среди нас, и верующие становятся гражданами небесного Царства «не уходя из мира, а преображая мир изнутри». Идея, что рай и ад – два состояния встречи души с Богом, получила даже полуофициальное выражение: так, в Катехизисе Католической церкви (1992) ад определяется как «самоисключение из общения с Богом», а рай – как «состояние совершенного единения с Ним в любви». Здесь подчеркнуто, что ключевой фактор – отношение души к Богу, а не география.
Интересно, что и психология дала свое прочтение. Знаменитый психолог К. Г. Юнг еще в середине XX века предположил, что образы ада и подземного мира – это проекции коллективного бессознательного, символы внутренних психических процессов (см. The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Юнг рассматривал мифологический спуск в ад как аналог глубинной терапии души, встречу с собственной тенью и страхами. Таким образом, даже в светской науке возникло подтверждение: представления о «нижнем мире» во многом соответствуют переживаниям внутри личности. Конечно, это не богословие в строгом смысле, но перекличка знаменательна.
Особое место занимает фигура Клайва Стейплза Льюиса, христианского мыслителя XX века. Хотя Льюис не был академическим теологом, его эссе и художественные произведения глубоко затрагивали тему рая и ада. В аллегорической повести «Расторжение брака» (The Great Divorce, 1945) Льюис изобразил странствующую между адом и райским предгорьем душу. Через образы он показывает: граница между адом и раем проходит в самом человеке. В одной из ключевых сцен герой-воспитатель (прототипом которого выступает шотландский писатель-мистик Джордж Макдональд) объясняет: «Ад – это состояние ума», когда душа заперта в себе; он говорит: «Ад есть состояние души (state of mind) – ты не ошибся, говоря это. Каждое замыкание твари в тюрьме собственного “я” в итоге есть ад. Но не думай, что и небо – просто состояние души: небо есть реальность сама по себе» (см. в "Расторжении брака": The Great Divorce by CS Lewis (chapters 7-9)). Льюис весьма точно уловил христианскую идею: ад – это не то, что Бог создаёт для грешников, а то, что грешник создает сам в себе, изгнав Бога. А рай – это подлинная реальность Бога, в которую человек либо входит, либо нет. Льюис также писал: «Двери ада заперты изнутри». Это значит, что Бог никого произвольно не заточает – просто некоторые души сами не желают открыть дверь в Царство, даже когда она перед ними. Эти образы Льюиса не претендуют на догматическую точность, но поражают глубиной психологического проникновения в смысл христианской эсхатологии. Не случайно его мысли цитируют не только проповедники, но и ученые-религиоведы.
Также можно упомянуть и нашего великого богослова-литератора Ф. М. Достоевского, который хотя жил раньше Льюиса, но предвосхитил подобные идеи. В «Легенде о Великом Инквизиторе» у Достоевского говорится, что людям порой легче отдать свободу и жить «ради хлебов земных», чем принять свободу в Царстве Христовом. Это указывает: вход в Царство – свободный выбор человека. А в романе «Братья Карамазовы» старец Зосима учит, что «ад – это мука уже не быть способным любить». Фактически, Достоевский формулирует тот же принцип: состояние сердца определяет, в раю ты или в аду.
Подводя итог взглядам современных мыслителей можно сказать, что Царство Божие и ад понимаются прежде всего как духовные реальности, зависимые от отношения души к Богу. Мирча Элиаде подчеркнул постоянную доступность Царства в каждом мгновении, К.С. Льюис наглядно показал рай и ад как продолжение наших внутренних устремлений, а психолог Юнг превратил спуск в ад в метафору самопознания . Современное академическое богословие во многом соглашается с таким подходом: язык о «местах» после смерти – образный, главное же – это опыт души, встречающей Бога и саму себя. В следующем разделе мы увидим, как подобные различия в понимании влияли на реальную историю культуры и общества.
В XX веке, на фоне развития психологии, сравнительного религиеведения и библейских исследований, тема «Царство Божие внутри нас» получила новое звучание. Исследователи стали подчёркивать субъективный, экзистенциальный аспект религиозных представлений о рае и аде. Например, выдающийся историк религий Мирча Элиаде отмечал, что для христианства характерна уникальная вера: Царство Божие достижимо в любой момент, а не просто ожидается в будущем. Элиаде указывает, что христиане верят – божественная реальность может раскрыться здесь и сейчас, стоит только человеку обратиться всем сердцем ([PDF] COINCIDENTIA OPPOSITORUM - Institute for Christian Studies).
Это разительно отличает христианскую духовность от архаических культов, где «золотой век» или блаженное бытие помещались либо в начало времен, либо в отдаленный конец. Иными словами, для христианина вечность проникает в настоящее, и граница между миром сим и Царством Божиим проходима изнутри души.
Современные богословы разных конфессий подчеркивают «уже присутствующую, но еще не завершенную» природу Царства (концепция «уже и еще нет», англ. already and not yet). Так, известный англиканский епископ и ученый Н. Т. Райт говорит, что воскресением Христа новое творение и царство Божие уже инициированы в нашем мире, и задача верующих – впустить эту реальность в свою жизнь и общество (On Earth As In Heaven - NTWrightPage).
Католический теолог Карл Ранер рассматривал посмертную жизнь как продолжение личного решения, принятого человеком в земной жизни: либо он открывается навстречу Божьей бесконечности (что и есть рай – «видение Бога»), либо замыкается в эгоизме (что по сути и есть ад). В православном богословии XX века, например, у митр. Каллиста Уэра, звучит мысль, что Церковь – это икона Царства, но лишь тогда, когда каждый верный превращает свое сердце в престол Царя – Христа.
Особенно ярко о внутренней природе рая и ада высказывались сами святые подвижники и богословы Востока. В новейшее время широко известна проповедь митрополита Антония Сурожского «Ад – это неспособность любить», где он говорит, что человек сам созидает в себе ад, когда отрекается от любви. Православный богослов протопресвитер Александр Шмеман писал, что в Евхаристии Царство Божие уже присутствует таинственно среди нас, и верующие становятся гражданами небесного Царства «не уходя из мира, а преображая мир изнутри». Идея, что рай и ад – два состояния встречи души с Богом, получила даже полуофициальное выражение: так, в Катехизисе Католической церкви (1992) ад определяется как «самоисключение из общения с Богом», а рай – как «состояние совершенного единения с Ним в любви». Здесь подчеркнуто, что ключевой фактор – отношение души к Богу, а не география.
Интересно, что и психология дала свое прочтение. Знаменитый психолог К. Г. Юнг еще в середине XX века предположил, что образы ада и подземного мира – это проекции коллективного бессознательного, символы внутренних психических процессов (см. The Mythology of Afterlife Beliefs and Their Impact on Religious Conflict, Part 1 (Brigid Burke) – RELIGIOUS THEORY). Юнг рассматривал мифологический спуск в ад как аналог глубинной терапии души, встречу с собственной тенью и страхами. Таким образом, даже в светской науке возникло подтверждение: представления о «нижнем мире» во многом соответствуют переживаниям внутри личности. Конечно, это не богословие в строгом смысле, но перекличка знаменательна.
Особое место занимает фигура Клайва Стейплза Льюиса, христианского мыслителя XX века. Хотя Льюис не был академическим теологом, его эссе и художественные произведения глубоко затрагивали тему рая и ада. В аллегорической повести «Расторжение брака» (The Great Divorce, 1945) Льюис изобразил странствующую между адом и райским предгорьем душу. Через образы он показывает: граница между адом и раем проходит в самом человеке. В одной из ключевых сцен герой-воспитатель (прототипом которого выступает шотландский писатель-мистик Джордж Макдональд) объясняет: «Ад – это состояние ума», когда душа заперта в себе; он говорит: «Ад есть состояние души (state of mind) – ты не ошибся, говоря это. Каждое замыкание твари в тюрьме собственного “я” в итоге есть ад. Но не думай, что и небо – просто состояние души: небо есть реальность сама по себе» (см. в "Расторжении брака": The Great Divorce by CS Lewis (chapters 7-9)). Льюис весьма точно уловил христианскую идею: ад – это не то, что Бог создаёт для грешников, а то, что грешник создает сам в себе, изгнав Бога. А рай – это подлинная реальность Бога, в которую человек либо входит, либо нет. Льюис также писал: «Двери ада заперты изнутри». Это значит, что Бог никого произвольно не заточает – просто некоторые души сами не желают открыть дверь в Царство, даже когда она перед ними. Эти образы Льюиса не претендуют на догматическую точность, но поражают глубиной психологического проникновения в смысл христианской эсхатологии. Не случайно его мысли цитируют не только проповедники, но и ученые-религиоведы.
Также можно упомянуть и нашего великого богослова-литератора Ф. М. Достоевского, который хотя жил раньше Льюиса, но предвосхитил подобные идеи. В «Легенде о Великом Инквизиторе» у Достоевского говорится, что людям порой легче отдать свободу и жить «ради хлебов земных», чем принять свободу в Царстве Христовом. Это указывает: вход в Царство – свободный выбор человека. А в романе «Братья Карамазовы» старец Зосима учит, что «ад – это мука уже не быть способным любить». Фактически, Достоевский формулирует тот же принцип: состояние сердца определяет, в раю ты или в аду.
Подводя итог взглядам современных мыслителей можно сказать, что Царство Божие и ад понимаются прежде всего как духовные реальности, зависимые от отношения души к Богу. Мирча Элиаде подчеркнул постоянную доступность Царства в каждом мгновении, К.С. Льюис наглядно показал рай и ад как продолжение наших внутренних устремлений, а психолог Юнг превратил спуск в ад в метафору самопознания . Современное академическое богословие во многом соглашается с таким подходом: язык о «местах» после смерти – образный, главное же – это опыт души, встречающей Бога и саму себя. В следующем разделе мы увидим, как подобные различия в понимании влияли на реальную историю культуры и общества.
Социально-культурные последствия концепций рая и ада (Запад и Восток)
Различия в религиозном понимании рая и ада на христианском Западе и Востоке значительно отразились на культуре, общественной морали и практиках.
Западная традиция (Европа, католицизм и протестантизм)
На латинском Западе средних веков представление об аде как месте страшных мук для грешников стало мощным социальным фактором. Страх адских наказаний активно использовался церковными проповедниками для назидания паствы. Картины Страшного суда и адских мучений украшали фасады готических соборов (вспомним знаменитый барельеф «Страшный суд» на соборе в Шартре) – они должны были, в прямом смысле, живописать последствия греха, внушая благоговейный страх. В литературе и театре эпохи тоже главенствовала эсхатологическая тема: мистерии разыгрывали сцены ада, например, популярный мотив «Адское зевало» – пасть чудовища, поглощающая грешников – должен был наглядно представить нераскаянным, что их ждет. Такая культура страха отчасти дисциплинировала общество, укрепляя мораль через ужас наказания.
Однако были и побочные эффекты: иногда панический страх ада толкал людей к крайностям – флагелланты (самобичующие себя), продажа индульгенций («покупка» облегчения в чистилище за деньги) и даже охота на ведьм – все это питалось убеждением, что ад реален и грозит отовсюду. Западное богословие, подчёркивая юридический аспект («грех – преступление, кара – ад»), невольно способствовало атмосфере вины и ужаса перед Божьим судом. Это, с одной стороны, рождает величайшие творения искусства (та же «Божественная комедия» Данте или «Страшный Суд» Микеланджело в Сикстине), с другой – иногда приводило к психологическому давлению на массы (неслучайно в позднейшей литературе, уже в эпоху Просвещения, появится критика церкви за «запугивание адом»).
В Новое время, после Реформации, страх ада хотя и смягчается в культуре (особенно в эпоху Просвещения, когда ад стали считать «баснями для старушек»), но морально-психологическое наследие осталось. Даже у вполне светских европейцев укоренилось понятие, что мораль – это нечто обеспечиваемое страхом наказания (сначала религиозным, а затем заменившим его государственным законом). Можно сказать, западная цивилизация восприняла юридический дух христианской эсхатологии: как в религии грозил ад, так в светском обществе – тюрьма или суд.
В то же время, западное христианство дало миру и примеры иного отношения: так, в католичестве всегда присутствовала идея милосердия, смягчающая страх. Возникновение образа чистилища можно даже считать выражением милосердия – души получают шанс очиститься, а не отправляются автоматом в вечный огонь. Однако позднее злоупотребления с индульгенциями (когда прощение грехов и спасение стали, по сути, товаром) привели к протестантскому протесту. Протестанты отвергли чистилище и индульгенции, но не отвергли сам принцип вечного воздаяния. Просто у них акцент сместился: спасение верой, а не делами – значит, человек не может «заслужить» рай, но и избежать ада может лишь через живую веру. Это породило иной психологический эффект: уверенность спасения у одних (кальвинисты верили в избрание святых) и, напротив, тревогу у других (если нет уверенности в своем избранничестве).
В результате, западная культура получила и тип самоуверенного праведника, и тип «грешника в руках разгневанного Бога», трепещущего всю жизнь (как на знаменитой гравюре с падающим в пропасть человеком над огнем). В общем, в Западной Европе тема рая и ада пронизывала общество: от архитектуры и искусства – до законодательства (ересь, ведущая к аду, каралась казнью, «чтобы душа не погибла навечно») и воспитания детей (рассказы о чертях, утаскивающих непослушных, прочно вошли в фольклор).
Восточная традиция (православие)
Православный Восток, сохраняя ту же веру в рай и ад, тем не менее развил менее юридическое, более мистическое их понимание. Уже византийские богословы, как отмечалось, видели в аду прежде всего лишение Божественной любви по вине самого человека. Классическая православная мысль утверждает: Бог есть любовь и свет, который сияет на всех, и праведных и грешных, но ощущается ими по-разному (Hell and Heaven | PEMPTOUSIA). Святитель Исаак Сирин (VII в.) писал, что «мучимые в геенне поражаются бичом любви». Иными словами, мучение грешника – не от отсутствия Бога, а от присутствия Бога, которое грешное существо не может принять и переживает как боль. Эта идея глубоко вошла в восточное богословие. В новейшее время православный публицист Александр Каломирос в эссе «Река огненная» (1980 г.) противопоставил западному «юридическому» аду православный взгляд: «Огонь адский – это та же любовь Божия, только принятие ее различно». Официальное православное учение формулирует это сдержаннее, но суть та же. Например, богослов Пантелеимон Томасос пишет: «Небо и ад – не два разных места, где праведники получают награды, а грешники наказания, но два состояния отношения к Богу… Один и тот же Божественный огонь любви дает радость принявшим его и боль тем, чья душа ожесточена». Православные догматисты подчеркивают, что Бог не сотворил зла и ада как такового; адские муки – это последствие свободного отвержения Бога творением. В то время как католическая схоластика (Афанасий, Августин на Западе) утверждала, что огонь геенны – реален, материален (вплоть до утверждений Фомы Аквинского, что воскресшие тела грешников будут гореть в настоящем огне)(Hell and Heaven | PEMPTOUSIA), православные склонялись считать образы огня метафорой нетварной энергии Бога, обжигающей совесть грешника (там же). Эти богословские нюансы повлияли и на духовность, и на богослужение.
В православном культе меньше упор делается на живописание адских мук. В храмах Востока, конечно, есть фрески Страшного суда (например, знаменитая фреска Дионисия в Ферапонтовом монастыре). Но литургическая жизнь концентрируется больше на радости Воскресения. Главный праздник – Пасха – провозглашает: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». В пасхальных песнопениях звучит уверенность, что Христос «сошел во ад и разрушил ад». Таким образом, в народном православном сознании ад не всесилен – напротив, ад уже побежден Христом. Это рождает не самоуверенность, но скорее умиротворенную надежду.
Православные поминают усопших молитвами, веря, что молитва Церкви облегчает участь даже самых грешных – опять же акцент на милосердии над правосудием. Византийская империя и последующие православные народы не знали таких масштабов «святой Инквизиции» или религиозных войн, какие были на Западе – отчасти потому, что метод «спасти душу силой, чтобы не попала в ад» не был характерен для восточной ментальности. Безусловно, были и на Востоке принудительные меры (казни еретиков случались в Византии, старообрядцев преследовали в России), но идеологически это не оправдывалось тем, что «инаковерующий обречен на вечный ад и его надо остановить любой ценой». Скорее, к еретикам относились как к заразе, портящей единство земной церкви, а не как к “душам, которых надо пыткой привести к спасению”. Разница тонкая, но реальная.
Еще одно последствие: нравственный облик верующего в разных традициях. Западный христианин (особенно католик) воспитывался в ключе чувства вины и необходимости удовлетворить Божественную справедливость. Отсюда практики покаяния, епитимьи, иногда весьма строгие, – чтобы не гореть в чистилище. Восточный же христианин больше воспитывался в ключе раскаяния как исцеления, чем наказания. Византийские отцы сравнивали грех с болезнью, а священника – с врачом. Покаяние видели как лекарство, а не только как юридическое удовлетворение. Это привело к тому, что православная духовность более терапевтична, без крайностей самобичевания (конечно, были строгие подвижники, но общее чувство – милость Божия покрывает множество грехов). В культуре это выразилось, например, в народном восприятии Бога не столько как судьи, сколько как милостивого Отца (молитва «Отче наш» – центральна). В народных сказках русских чаще встречается «Бог милостив, простит», чем образы адского возмездия (хотя и они есть).
Вместе с тем, восточная традиция породила сильный мистический индивидуализм – старцы, исихасты уходили в затвор, спасая душу, нередко отстраняясь от социальной активности. Запад же, устрашая адом, мобилизовывал народ на крестовые походы, миссии, строительство соборов (кстати, страх чистилища стимулировал богатых жертвовать на храмы, монастыри, чтобы «отмолить грехи» – благодаря чему мы имеем грандиозные готические соборы Европы). Восток не знал института индульгенций, поэтому и экономика церкви там развивалась иначе: держалась на княжеских пожертвованиях и царских милостынях, но не на массовой “оплате спасения”. В этом смысле религиозные установки влияли даже на финансово-общественные отношения.
Итоговые различия
На Западе концепция рая и ада (особенно ада) во многом воспитывала сознание через страх и чувство долга. Это создало дисциплинированные общества, где закон (как отражение высшей Справедливости) уважался, но где также были периоды фанатизма и жестокости «во имя спасения». На Востоке акцент на внутреннем преображении и таинстве милости породил общества более патерналистские (где надеялись на милость царя и Бога), менее склонные к агрессивному миссионерству, но иногда и пассивные в социальных изменениях (раз Бог милостив, незачем революций – терпи). Конечно, это обобщения, и реальная история сложнее. Однако культурный код “страха Божьего” vs “умиления перед Тайной” различим: средневековый западный христианин молился, чтобы спастись от гнева Господня, а восточный – чтобы удостоиться света лица Его. Оба – грани единой веры, но тональность разная.
В наше время, когда глобализация смешала традиции, эти различия сглаживаются. Но они оставили след. Даже сегодня можно услышать от европейца-агностика: «Я не верю, но ад меня пугает» – эхо средневековых страхов, – тогда как у, скажем, русской деревенской бабушки-прихожанки скорее услышишь: «Бог есть любовь, Он всех помилует», что отражает православное упование. И то, и другое – следствия веков определенной теологии рая и ада.
Различия в религиозном понимании рая и ада на христианском Западе и Востоке значительно отразились на культуре, общественной морали и практиках.
Западная традиция (Европа, католицизм и протестантизм)
На латинском Западе средних веков представление об аде как месте страшных мук для грешников стало мощным социальным фактором. Страх адских наказаний активно использовался церковными проповедниками для назидания паствы. Картины Страшного суда и адских мучений украшали фасады готических соборов (вспомним знаменитый барельеф «Страшный суд» на соборе в Шартре) – они должны были, в прямом смысле, живописать последствия греха, внушая благоговейный страх. В литературе и театре эпохи тоже главенствовала эсхатологическая тема: мистерии разыгрывали сцены ада, например, популярный мотив «Адское зевало» – пасть чудовища, поглощающая грешников – должен был наглядно представить нераскаянным, что их ждет. Такая культура страха отчасти дисциплинировала общество, укрепляя мораль через ужас наказания.
Однако были и побочные эффекты: иногда панический страх ада толкал людей к крайностям – флагелланты (самобичующие себя), продажа индульгенций («покупка» облегчения в чистилище за деньги) и даже охота на ведьм – все это питалось убеждением, что ад реален и грозит отовсюду. Западное богословие, подчёркивая юридический аспект («грех – преступление, кара – ад»), невольно способствовало атмосфере вины и ужаса перед Божьим судом. Это, с одной стороны, рождает величайшие творения искусства (та же «Божественная комедия» Данте или «Страшный Суд» Микеланджело в Сикстине), с другой – иногда приводило к психологическому давлению на массы (неслучайно в позднейшей литературе, уже в эпоху Просвещения, появится критика церкви за «запугивание адом»).
В Новое время, после Реформации, страх ада хотя и смягчается в культуре (особенно в эпоху Просвещения, когда ад стали считать «баснями для старушек»), но морально-психологическое наследие осталось. Даже у вполне светских европейцев укоренилось понятие, что мораль – это нечто обеспечиваемое страхом наказания (сначала религиозным, а затем заменившим его государственным законом). Можно сказать, западная цивилизация восприняла юридический дух христианской эсхатологии: как в религии грозил ад, так в светском обществе – тюрьма или суд.
В то же время, западное христианство дало миру и примеры иного отношения: так, в католичестве всегда присутствовала идея милосердия, смягчающая страх. Возникновение образа чистилища можно даже считать выражением милосердия – души получают шанс очиститься, а не отправляются автоматом в вечный огонь. Однако позднее злоупотребления с индульгенциями (когда прощение грехов и спасение стали, по сути, товаром) привели к протестантскому протесту. Протестанты отвергли чистилище и индульгенции, но не отвергли сам принцип вечного воздаяния. Просто у них акцент сместился: спасение верой, а не делами – значит, человек не может «заслужить» рай, но и избежать ада может лишь через живую веру. Это породило иной психологический эффект: уверенность спасения у одних (кальвинисты верили в избрание святых) и, напротив, тревогу у других (если нет уверенности в своем избранничестве).
В результате, западная культура получила и тип самоуверенного праведника, и тип «грешника в руках разгневанного Бога», трепещущего всю жизнь (как на знаменитой гравюре с падающим в пропасть человеком над огнем). В общем, в Западной Европе тема рая и ада пронизывала общество: от архитектуры и искусства – до законодательства (ересь, ведущая к аду, каралась казнью, «чтобы душа не погибла навечно») и воспитания детей (рассказы о чертях, утаскивающих непослушных, прочно вошли в фольклор).
Восточная традиция (православие)
Православный Восток, сохраняя ту же веру в рай и ад, тем не менее развил менее юридическое, более мистическое их понимание. Уже византийские богословы, как отмечалось, видели в аду прежде всего лишение Божественной любви по вине самого человека. Классическая православная мысль утверждает: Бог есть любовь и свет, который сияет на всех, и праведных и грешных, но ощущается ими по-разному (Hell and Heaven | PEMPTOUSIA). Святитель Исаак Сирин (VII в.) писал, что «мучимые в геенне поражаются бичом любви». Иными словами, мучение грешника – не от отсутствия Бога, а от присутствия Бога, которое грешное существо не может принять и переживает как боль. Эта идея глубоко вошла в восточное богословие. В новейшее время православный публицист Александр Каломирос в эссе «Река огненная» (1980 г.) противопоставил западному «юридическому» аду православный взгляд: «Огонь адский – это та же любовь Божия, только принятие ее различно». Официальное православное учение формулирует это сдержаннее, но суть та же. Например, богослов Пантелеимон Томасос пишет: «Небо и ад – не два разных места, где праведники получают награды, а грешники наказания, но два состояния отношения к Богу… Один и тот же Божественный огонь любви дает радость принявшим его и боль тем, чья душа ожесточена». Православные догматисты подчеркивают, что Бог не сотворил зла и ада как такового; адские муки – это последствие свободного отвержения Бога творением. В то время как католическая схоластика (Афанасий, Августин на Западе) утверждала, что огонь геенны – реален, материален (вплоть до утверждений Фомы Аквинского, что воскресшие тела грешников будут гореть в настоящем огне)(Hell and Heaven | PEMPTOUSIA), православные склонялись считать образы огня метафорой нетварной энергии Бога, обжигающей совесть грешника (там же). Эти богословские нюансы повлияли и на духовность, и на богослужение.
В православном культе меньше упор делается на живописание адских мук. В храмах Востока, конечно, есть фрески Страшного суда (например, знаменитая фреска Дионисия в Ферапонтовом монастыре). Но литургическая жизнь концентрируется больше на радости Воскресения. Главный праздник – Пасха – провозглашает: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». В пасхальных песнопениях звучит уверенность, что Христос «сошел во ад и разрушил ад». Таким образом, в народном православном сознании ад не всесилен – напротив, ад уже побежден Христом. Это рождает не самоуверенность, но скорее умиротворенную надежду.
Православные поминают усопших молитвами, веря, что молитва Церкви облегчает участь даже самых грешных – опять же акцент на милосердии над правосудием. Византийская империя и последующие православные народы не знали таких масштабов «святой Инквизиции» или религиозных войн, какие были на Западе – отчасти потому, что метод «спасти душу силой, чтобы не попала в ад» не был характерен для восточной ментальности. Безусловно, были и на Востоке принудительные меры (казни еретиков случались в Византии, старообрядцев преследовали в России), но идеологически это не оправдывалось тем, что «инаковерующий обречен на вечный ад и его надо остановить любой ценой». Скорее, к еретикам относились как к заразе, портящей единство земной церкви, а не как к “душам, которых надо пыткой привести к спасению”. Разница тонкая, но реальная.
Еще одно последствие: нравственный облик верующего в разных традициях. Западный христианин (особенно католик) воспитывался в ключе чувства вины и необходимости удовлетворить Божественную справедливость. Отсюда практики покаяния, епитимьи, иногда весьма строгие, – чтобы не гореть в чистилище. Восточный же христианин больше воспитывался в ключе раскаяния как исцеления, чем наказания. Византийские отцы сравнивали грех с болезнью, а священника – с врачом. Покаяние видели как лекарство, а не только как юридическое удовлетворение. Это привело к тому, что православная духовность более терапевтична, без крайностей самобичевания (конечно, были строгие подвижники, но общее чувство – милость Божия покрывает множество грехов). В культуре это выразилось, например, в народном восприятии Бога не столько как судьи, сколько как милостивого Отца (молитва «Отче наш» – центральна). В народных сказках русских чаще встречается «Бог милостив, простит», чем образы адского возмездия (хотя и они есть).
Вместе с тем, восточная традиция породила сильный мистический индивидуализм – старцы, исихасты уходили в затвор, спасая душу, нередко отстраняясь от социальной активности. Запад же, устрашая адом, мобилизовывал народ на крестовые походы, миссии, строительство соборов (кстати, страх чистилища стимулировал богатых жертвовать на храмы, монастыри, чтобы «отмолить грехи» – благодаря чему мы имеем грандиозные готические соборы Европы). Восток не знал института индульгенций, поэтому и экономика церкви там развивалась иначе: держалась на княжеских пожертвованиях и царских милостынях, но не на массовой “оплате спасения”. В этом смысле религиозные установки влияли даже на финансово-общественные отношения.
Итоговые различия
На Западе концепция рая и ада (особенно ада) во многом воспитывала сознание через страх и чувство долга. Это создало дисциплинированные общества, где закон (как отражение высшей Справедливости) уважался, но где также были периоды фанатизма и жестокости «во имя спасения». На Востоке акцент на внутреннем преображении и таинстве милости породил общества более патерналистские (где надеялись на милость царя и Бога), менее склонные к агрессивному миссионерству, но иногда и пассивные в социальных изменениях (раз Бог милостив, незачем революций – терпи). Конечно, это обобщения, и реальная история сложнее. Однако культурный код “страха Божьего” vs “умиления перед Тайной” различим: средневековый западный христианин молился, чтобы спастись от гнева Господня, а восточный – чтобы удостоиться света лица Его. Оба – грани единой веры, но тональность разная.
В наше время, когда глобализация смешала традиции, эти различия сглаживаются. Но они оставили след. Даже сегодня можно услышать от европейца-агностика: «Я не верю, но ад меня пугает» – эхо средневековых страхов, – тогда как у, скажем, русской деревенской бабушки-прихожанки скорее услышишь: «Бог есть любовь, Он всех помилует», что отражает православное упование. И то, и другое – следствия веков определенной теологии рая и ада.
Основная идея: Царствие Божие внутри нас
Проследив этот длинный путь историй и идей, возвращаемся к евангельским словам: «Царствие Божие внутри вас». Теперь они обретают более ясный смысл. Религиозная мысль и опыт многих поколений привели к пониманию, что подлинный рай и ад зарождаются в сердце человека уже при земной жизни. Смерть лишь являет совершенную правду о душе, раскрывая то, чем она стала.
Если человек всей жизнью искал Бога, наполнялся любовью и смирением – он носил в себе Царство Божие, и переход через смерть лишь откроет ему более полную меру той радости, которую он вкусил отчасти здесь. Недаром святые умирали с улыбкой – они переходили из веры в явь, из внутреннего рая – в рай совершенный. И наоборот, если кто замыкался в эгоизме, злобе, отвергал голос совести – он уже жил в преддверии ада, и за порогом смерти этот внутренний ад разгорится полностью. Как писал древний христианский автор: «Каждый несёт с собой свою судьбу; имеющий в сердце рай – войдёт в рай, имеющий ад – войдёт в ад».
Современное богословие фактически подтверждает эту мысль языком доктрины: Бог не предопределяет никого в ад – человек сам выбирает отчуждение от Бога, и муки ада не что иное, как мучительное присутствие Истины для того, кто лжи возлюбил более истины. И напротив, блаженство праведников – это не произвольный «приз», а естественное следствие общения души с источником жизни – Богом – которое началось еще до смерти и продолжается в вечности.
Православный автор дает наглядный образ: один и тот же свет причиняет страдание больным глазам и радость здоровым (Hell and Heaven | PEMPTOUSIA). Так и Божий свет, Божие Царство одно для всех, просто для одних оно желанно, а для других ненавистно (по их же свободному выбору). Значит, рай и ад – не два разных творения, а две стороны отношения к одному Богу. В этом глубочайший смысл: Бог внутри нас устанавливает Свое Царство, если мы позволяем; или же для нас Его Царство становится огнем в совести, если мы противимся.
Таким образом, посмертное бытие – не параллельная вселенная с другими законами, а прямое продолжение духовной жизни личности. Встреча с Богом неизбежна («все предстанем пред судом Христовым»), но качество этой встречи определяется тем, что внутри человека. Если внутри – Царство Божие (правда, любовь, смирение), то встреча эта – радость, вхождение в радость Господина. Если же внутри царство эго («я – себе царь»), то встреча с истинным Царем будет переживаться как крушение и стыд, который и составит муку. Как говорил один подвижник, «в день Суда отыщется сердце человека» – и больше ничего внешнего не понадобится.
Следует подчеркнуть: такой подход не умаляет реальности рая или ада – напротив, делает их еще более серьезными. Потому что уже здесь и сейчас человек причастен либо первому, либо второму. Нельзя отложить вопрос до смерти – мы каждодневно творим свою вечность. Христос дал нам и путь (заповеди любви, смирения, прощения), и силу (благодать Духа Святого в Таинствах) для того, чтобы Царство Божие росло в нас, «как зерно, дающее древо». И христианин призван ощущать себя именно гражданином этого внутреннего Царства. Апостол Павел писал: «Царство Божие – это праведность, и мир, и радость во Святом Духе» (Рим 14:17). Заметим, он не говорит о золотых улицах или ангельских хорах, а называет качества духовного состояния. Праведность (то есть гармония с волей Божией), мир (глубинное спокойствие совести) и радость во Святом Духе – вот признаки того, что уже здесь, на земле, человек живет в измерении Божьего Царства.
Напротив, где ненависть, тревога, отчаяние – там ад начинается уж сейчас. Христианская культура часто говорит: «жить с Богом – уже рай, жить без Него – мука». Это не просто красивые слова – это духовный закон, подтвержденный опытом бесчисленных людей. В житиях святых описаны мученики, которые в адских по человеческим меркам условиях (казни, тюрьмы) пели псалмы и пребывали в небесной радости – ибо Царство Божие было внутри них. И наоборот, известны примеры, когда, казалось бы, всесильные тираны, имевшие все земные удовольствия, жили как в аду – терзаясь страхами, злобой, не находя покоя ни днем, ни ночью (достаточно вспомнить библейского царя Саула, которого «злой дух мучил» в его отступничестве).
Социальный поворот
В наше время понимание Царства Божия как внутренней реальности имеет и социальное измерение: люди осознают, что нельзя построить рай на земле внешними средствами – технологией, политикой – без преобразования самих себя. Утопии XX века, пытавшиеся создать «рай без Бога», обернулись катастрофами. Это лишний раз подтверждает евангельскую истину: «внутри вас» – стартовая точка любых изменений. Когда сердце человека исполнено Царства Божия, он несет его вовне – в семью, в общество, в культуру, – освящая мир вокруг. Но если сердца пусты или полны эгоизма, никакие институты не предотвратят скатывания общества в «ад» – будь то войны, тирания или упадок морали.
Вывод: идея о том, что рай и ад – не столько местопребывания, сколько состояния души, – не упрощает и не “психологизирует” веру, а напротив, углубляет ее. Она снимает ложные, наивно-материалистические ожидания (нарисованные картины загробных ландшафтов) и возвращает нас к сути евангельского послания: «Покайся, ибо приблизилось Царство Божие».
Приблизилось – значит, уже у порога, готово войти внутрь тебя, если открыешь. И тогда никакая смерть не страшна, ибо душа уже живет жизнью вечного Царства, которое “ни глаз не видел, ни ухо не слыхало, что уготовал Бог любящим Его” – но которое отчасти может быть пережито в глубинах сердца через общение с Богом. Именно к этому переживанию своей сущности в Боге призывает нас Христос, когда говорит о Царствии Божием внутри нас. Это переживание и есть начало небесной жизни, которая продолжается после смерти в вечном Божественном Царстве.
От нас зависит, войдем ли мы в него. И начинается этот выбор – здесь и сейчас, в тайниках души. Царство Божие – не далекая утопия, а духовная реальность, призванная обитать внутри каждого из нас. И когда наши земные дни закончатся, мы не попадем в чуждый неизвестный мир, а пожнем плоды того Царства, которое вызреваело в нашем сердце.
Проследив этот длинный путь историй и идей, возвращаемся к евангельским словам: «Царствие Божие внутри вас». Теперь они обретают более ясный смысл. Религиозная мысль и опыт многих поколений привели к пониманию, что подлинный рай и ад зарождаются в сердце человека уже при земной жизни. Смерть лишь являет совершенную правду о душе, раскрывая то, чем она стала.
Если человек всей жизнью искал Бога, наполнялся любовью и смирением – он носил в себе Царство Божие, и переход через смерть лишь откроет ему более полную меру той радости, которую он вкусил отчасти здесь. Недаром святые умирали с улыбкой – они переходили из веры в явь, из внутреннего рая – в рай совершенный. И наоборот, если кто замыкался в эгоизме, злобе, отвергал голос совести – он уже жил в преддверии ада, и за порогом смерти этот внутренний ад разгорится полностью. Как писал древний христианский автор: «Каждый несёт с собой свою судьбу; имеющий в сердце рай – войдёт в рай, имеющий ад – войдёт в ад».
Современное богословие фактически подтверждает эту мысль языком доктрины: Бог не предопределяет никого в ад – человек сам выбирает отчуждение от Бога, и муки ада не что иное, как мучительное присутствие Истины для того, кто лжи возлюбил более истины. И напротив, блаженство праведников – это не произвольный «приз», а естественное следствие общения души с источником жизни – Богом – которое началось еще до смерти и продолжается в вечности.
Православный автор дает наглядный образ: один и тот же свет причиняет страдание больным глазам и радость здоровым (Hell and Heaven | PEMPTOUSIA). Так и Божий свет, Божие Царство одно для всех, просто для одних оно желанно, а для других ненавистно (по их же свободному выбору). Значит, рай и ад – не два разных творения, а две стороны отношения к одному Богу. В этом глубочайший смысл: Бог внутри нас устанавливает Свое Царство, если мы позволяем; или же для нас Его Царство становится огнем в совести, если мы противимся.
Таким образом, посмертное бытие – не параллельная вселенная с другими законами, а прямое продолжение духовной жизни личности. Встреча с Богом неизбежна («все предстанем пред судом Христовым»), но качество этой встречи определяется тем, что внутри человека. Если внутри – Царство Божие (правда, любовь, смирение), то встреча эта – радость, вхождение в радость Господина. Если же внутри царство эго («я – себе царь»), то встреча с истинным Царем будет переживаться как крушение и стыд, который и составит муку. Как говорил один подвижник, «в день Суда отыщется сердце человека» – и больше ничего внешнего не понадобится.
Следует подчеркнуть: такой подход не умаляет реальности рая или ада – напротив, делает их еще более серьезными. Потому что уже здесь и сейчас человек причастен либо первому, либо второму. Нельзя отложить вопрос до смерти – мы каждодневно творим свою вечность. Христос дал нам и путь (заповеди любви, смирения, прощения), и силу (благодать Духа Святого в Таинствах) для того, чтобы Царство Божие росло в нас, «как зерно, дающее древо». И христианин призван ощущать себя именно гражданином этого внутреннего Царства. Апостол Павел писал: «Царство Божие – это праведность, и мир, и радость во Святом Духе» (Рим 14:17). Заметим, он не говорит о золотых улицах или ангельских хорах, а называет качества духовного состояния. Праведность (то есть гармония с волей Божией), мир (глубинное спокойствие совести) и радость во Святом Духе – вот признаки того, что уже здесь, на земле, человек живет в измерении Божьего Царства.
Напротив, где ненависть, тревога, отчаяние – там ад начинается уж сейчас. Христианская культура часто говорит: «жить с Богом – уже рай, жить без Него – мука». Это не просто красивые слова – это духовный закон, подтвержденный опытом бесчисленных людей. В житиях святых описаны мученики, которые в адских по человеческим меркам условиях (казни, тюрьмы) пели псалмы и пребывали в небесной радости – ибо Царство Божие было внутри них. И наоборот, известны примеры, когда, казалось бы, всесильные тираны, имевшие все земные удовольствия, жили как в аду – терзаясь страхами, злобой, не находя покоя ни днем, ни ночью (достаточно вспомнить библейского царя Саула, которого «злой дух мучил» в его отступничестве).
Социальный поворот
В наше время понимание Царства Божия как внутренней реальности имеет и социальное измерение: люди осознают, что нельзя построить рай на земле внешними средствами – технологией, политикой – без преобразования самих себя. Утопии XX века, пытавшиеся создать «рай без Бога», обернулись катастрофами. Это лишний раз подтверждает евангельскую истину: «внутри вас» – стартовая точка любых изменений. Когда сердце человека исполнено Царства Божия, он несет его вовне – в семью, в общество, в культуру, – освящая мир вокруг. Но если сердца пусты или полны эгоизма, никакие институты не предотвратят скатывания общества в «ад» – будь то войны, тирания или упадок морали.
Вывод: идея о том, что рай и ад – не столько местопребывания, сколько состояния души, – не упрощает и не “психологизирует” веру, а напротив, углубляет ее. Она снимает ложные, наивно-материалистические ожидания (нарисованные картины загробных ландшафтов) и возвращает нас к сути евангельского послания: «Покайся, ибо приблизилось Царство Божие».
Приблизилось – значит, уже у порога, готово войти внутрь тебя, если открыешь. И тогда никакая смерть не страшна, ибо душа уже живет жизнью вечного Царства, которое “ни глаз не видел, ни ухо не слыхало, что уготовал Бог любящим Его” – но которое отчасти может быть пережито в глубинах сердца через общение с Богом. Именно к этому переживанию своей сущности в Боге призывает нас Христос, когда говорит о Царствии Божием внутри нас. Это переживание и есть начало небесной жизни, которая продолжается после смерти в вечном Божественном Царстве.
От нас зависит, войдем ли мы в него. И начинается этот выбор – здесь и сейчас, в тайниках души. Царство Божие – не далекая утопия, а духовная реальность, призванная обитать внутри каждого из нас. И когда наши земные дни закончатся, мы не попадем в чуждый неизвестный мир, а пожнем плоды того Царства, которое вызреваело в нашем сердце.
Подпишитесь на наш телеграм-канал, чтобы получать свежие статьи: